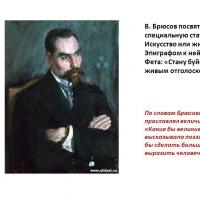Читать рассказы альпинистов о приключениях в горах. Истории наших людей. цикл рассказов инструкторов клуба "стремление". Единственный слепой человек, который покорил «Семь вершин»
Повседневность, быт, суматоха, железобетонные города мешают нам наблюдать за красотой, которой мы окружены, мегаполисы гудят словно пчелиный улей. Спешка и беготня перечеркивают внимание к окружающему миру и собственным мыслям. Альпинизм же предоставляет возможность уйти от всего этого и, волей не волей, заставляет тебя не спешить, наблюдать за погодой и природой, быть размеренным в мыслях и в действиях. Видимо, поэтому меня так привлекает этот вид спорта (Иван Квашнин).
14 июля 2017 сотрудники магазина АльпИндустрия в московском ТЦ Авиапарк Иван Квашнин и Алексей Преображенский взошли на вершину Казбека, осуществив свою мечту. С восхождения парни привезли несколько плёнок удивительных фотографий и море впечатлений, два разных взгляда на восхождение. Итак, про горы и про мысли.
Алексей Преображенский
О чём думает человек на высоте 3000 метров, шаг за шагом поднимаясь в гору с тяжёлым рюкзаком за спиной? Для меня, пожалуй, это был самый главный и решающий вопрос в этом путешествии.
В июле 2017 мы с коллегой Ваней совершили восхождение на Казбек с грузинской стороны. Я не хочу рассказывать про технические моменты нашего восхождения, приводить точные цифры и описывать, как и что нами использовалось из снаряжения. Для меня было важно другое - мысли. И как они могут повлиять на восприятие окружающей среды и поведение человека в экстремальных условиях.

Именно сила мысли помогала мне подниматься выше и осознавать, зачем это нужно. Времени на раздумья и копание в себе в подобном путешествии предостаточно. Монотонный подъём с выверенным шагом - что-то сродни медитации. Мозг отдаёт команды мышцам: «Иди», «Иди», «Ещё шаг», «Второй». И параллельно задаёт настрой: «Ты должен!», «Ты сможешь!», «Ты справишься!».
Погружаясь в себя, я думал о жизни внизу, о каких-то маленьких радостях и о том, что мы совсем не замечаем красоту вокруг себя и принимаем как должное то, что имеем. Думал о близких мне людях, о том, что мог бы сделать их счастливее, просто подарив немного больше своего внимания... И с набором высоты мне казалось, что мысли становились всё более чистыми и правильными.
Когда изможденный, обессилевший организм тревожно сигнализирует мозгу «Всё! Стоп! Это выше моих сил. Если продолжишь в том же духе, ты сломаешься», в дело вступает сила мысли: «Это не предел! Ты сможешь! Ты не хуже других! Ты должен дойти!». И ты проходишь ещё столько же.

Труднее всего было на стоянках, когда мозг понимал, что физические нагрузки закончились, и больше не держал мышцы в тонусе. Тело расслаблялось и не слушалось, когда его хотели занять какими-то бытовыми делами. Там же, на стоянках, давала о себе знать горная болезнь, вызванная недостатком кислорода, у меня постоянно болела голова. Хотелось ли мне в эти минуты вниз, в комфорт, в цивилизацию? Нет. Я понимал, что это мой осознанный выбор, что это происходит здесь и сейчас и, возможно, никогда больше не повторится. Все эти мысли, надежно зафиксированные в сознании, помогали двигаться вперед и наполняли подъём к вершине смыслом. Хотя для меня не столь важна была конечная точка нашего восхождения, сколько сам процесс. Может, именно поэтому наибольшее впечатление на меня произвел пик Майли-хох, восхождение на который мы совершили накануне штурма вершины. Отправившись туда вчетвером, мы были первыми, кто поднялся туда за последние дни. Интересный маршрут и потрясающий вид с вершины надолго отложатся в моей памяти и будут напоминать обо всём нашем путешествии.

Что же касается самого ответственного и долгожданного события - штурма - как я уже говорил, вершина не была самоцелью. Конечная точка моего путешествия находилась где-то глубоко во мне, скрываясь за предрассудками и ограничениями, над которыми мне предстояло подняться и посмотреть на всё с новой высоты.

Иван Квашнин
Лёша у нас большой романтик, а уж горы ещё сильнее сподвигают на это. Он действительно хорошо описывает то, что происходит внутри почти каждого человека во время пребывания на высоте.
Но я хочу погрузить вас не в духовный мир, а, наверно, больше приблизить к реалиям и тому, каким я видел «настоящего» Лёху, а не того летающего в своих мыслях и поиска истины романтика. Ну что ж, как сказал Гагарин, поехали!

День №1
Проскочив границу на Верхнем Ларсе, мы приехали в городок Степанцминда (Казбеги). В первый же вечер окунулись с головой в грузинскую кухню, с мыслями о том, что последующие дней десять будем питаться только сублиматами и кашами.
Ели всё и помногу. Как говорила бабушка моего друга, если чешется — чеши, будет радость для души! После этих слов Лёха заказал себе двойную порцию овощей на мангале и лимонад.
На подъёме к нашему хостелу Казбек раскрыл себя во всей своей красе. Ночь стояла звёздная. Со Степанцминды гора смотрится очень грозно и мощно. В хостеле комната досталась с видом на вершину, и я не мог уснуть до 3:00, в предвкушении глядя на неё в окно. Затем противно зазвенел будильник, и наступил следующий день.

День №2
Договорились с местными о трансфере до Гергетской церкви. Трансфером оказалась Митсубиши Делика. Собственно, Степанцминда — это город этих машин. На протяжении всей дороги мы любовались пейзажами, а обрывы в нескольких сантиметрах от бортов машины порой щекотали нам нервы и добавляли остроты нашим приключениям.
Доехав до места, мы, недолго думая, накинули рюкзаки и пошли до первого места ночевки под названием Зелёнка или, как ещё называют, Грин Хотел. Набрав немного высоты, зашли в облака. Поднялась влажность, и стало прохладно. Шаг за шагом мы отдалялись от грузинских кухонных изысков и погружались в реалии восхождения в альпийском стиле.
Когда мы добрались до Зелёнки, поднялся ветер и начал моросить дождь. Быстро поставив палатку, принялись готовить. Благо тут уже «веками» всё обустроено туристами. Есть небольшой родник, стоят ветрозащиты для палаток и «кухонь». Накинув на себя флис и , принялись готовить. Пока готовили, рассказывали смешные байки. Поели гречки с сушёными овощами, выпили пару чашек горячего чая, и на боковую после ходового дня.
.jpg)
День №3
Утром нас разбудил не будильник, а солнце. Перед нами предстала великолепная ясная погода с красивыми видами и снежной вершиной Казбека.
Я спросил Лёху, как ему спалось. Ответ был не самый бодрый: «Почти не спал». Я списал всё на то, что первая ночь в диких условиях всегда такая, да и тем более место в палатке ему досталось не самое ровное. Лёха махнул рукой со словами «То ли ещё будет!». Оптимизм и жизнелюбие брызжат из него, как свежевыжатый сок...
Погрелись на солнышке, позавтракали с видом на горные пейзажи и выдвинулись в путь до метеостанции. На подъёме от стоянки нам открылся вид на язык ледника Гергети и берущую от него начало реку Чхери, вымывшую ущелье. Этот вид производит неизгладимое впечатление, до мурашек по коже.
Перейдя вброд горную реку, водопадом впадающую в Чхери, мы уткнулись в первое препятствие — ледник Гергети. Он оказался полностью открытым и коварных опасностей в виде ненадежных мостов и закрытых трещин не таил. Солнце жарило во всю. Перебежав ледник, обходя трещины, мы оказались на метеостанции. Тут высота уже чувствуется, но не критично, 3600 м. Вымотанные солнцем и хождением в кошках по леднику, мы поставили палатку и пошли регистрироваться в «метео». Поужинали и приняли решения, что с 3600 штурмовать не будем - долго и нудно. Дойдем до 3800, посмотрим на состояние и, если все будет гуд, пойдём дальше на 4200. Выключили фонарики и начали слушать камнепады, пока не проснулись от духоты в палатке.

День №4
Погодка шепчет. Проснулись в 6 утра, в палатке дышать нечем, открываем молнию - солнце обжигает глаза. Воздух свежий воздух, можно откинутся назад и обдумать день.
Лёху я со всей искренностью прозвал пасечником, так как высота отразилась на его лице в виде одной сплошной опухоли.
Утро проходит как день сурка: собираем снарягу, овсянка, сэр, чай и в путь.
До 3800 дошли быстро. Состояние хорошее. Погода радует. Без раздумий двигаем на 4200. По дороге сделали привал с перекусом. По Лёхе видно, что высота действует, организм борется, как и его внутреннее эго. Из-за того, что долго собирались, солнце вышло на склоны, полетели вниз камни. Мы на кромке ледника. В голове слова В. Высоцкого:
Ты идёшь по кромке ледника,
Взгляд не отрывая от вершины.
Горы спят, вдыхая облака,
Выдыхая снежные лавины.
Но они с тебя не сводят глаз,
Будто бы тебе покой обещан,
Предостерегая всякий раз
Камнепадом и оскалом трещин.
Пробегаем этот опасный участок и ставим лагерь на 4200. Солнце просто выжигает. Мы фактически находимся в линзе. Надо окопаться и поставить лагерь. Даю Лёхе лопату: надо его немножко взбодрить. Да и физические нагрузки - всё лучше для акклимухи. Я вообще всегда стараюсь через не хочу во время акклиматизации что-то делать, поэтому решил дать лопату ему, тем самым привить ту же привычку:) А сам сел топить снег.
Лагерь водрузили, компота напились, перекусили. До конца солнечного дня было ещё долго, поэтому коротали время, играя в карты и принимая солнечные ванны.
Готовя ужин из сублиматов, со вздохами вспоминали чахохбили, аджапсандали, оджахури на кеци и прочие кулинарные прелести Грузии. За этими мыслями и завершился вечер четвёртого дня.


День №5
Просыпаемся. Выхожу из палатки, понимаю, что солнцу по склону до нас ползти ещё как минимум часа 2, одеваюсь во всё теплое и начинаю готовить завтрак. Пока топили снег и собирались на радиальный выход, солнце дошло до нас и показало себя во всей красе.
Акклиматизационный выход у нас был на вершину Спартак. Мы не стали нарезать излишки пути без набора высоты и решили двинуть напрямик, обогнув его с правой стороны, где и начали подъём. Вот тут-то то самое красивое солнце, которого мы ждали всё утро, начало нас выжигать, как муравьёв линзой.
Дошли мы до вершины Спартака достаточно быстро, с одним привалом. Посидев на вершине (примерно 4500) и налюбовавшись красотами, приняли решение зайти на Майли, так как времени в запасе оставалось ещё много. На обратном пути Лёха провалился по пояс в трещину. Мы были в связке и технично отработали этот момент. Лёха из трещины вылетел, как пробка из-под шампанского, но гнетущее чувство опасности усилилось.
Пришли в штурмовой лагерь за пару часов до темноты. Палящее солнце очень утомило. Лёха весь на эмоциях после того, как застрял по пояс в трещине. За ужином глянули прогноз на последующие дни - он заставил задуматься. Взвесив силы, плохой прогноз и желание взойти, приняли решение штурмовать вершину завтра.

День №6
Подъём в 4 утра. Холодно, очень холодно… Кое-как начинаем готовить завтрак. Пару ложек овсянки и стакан горячего чая обязательно. Хорошо хоть термосы наполнили вчера. Пока топится снег, во всю собираемся. Ночь красивая, звёздная, спокойная. Долго я ждал этого ощущения, будто бы всё замерло. Нет ветра, запахов, движения, словно планета перестала вращаться...
К тому моменту как я стал активно собираться, Лёха уже сварил кашу и подогрел остатки вчерашнего чая в котелке. Перекусили, проверили снаряжение - и в путь. Отогрелись, только когда начали идти. Первые шаги давались с трудом: ещё сонный, каша не до конца провалилась, а Лёха сетовал на головную боль.
Постепенно набираем высоту. Встретили поляков, идущих на штурм без акклиматизации с 3600. Их состоянию я точно не завидовал.
С Лёхой шли одним темпом, делая остановки каждые 40 минут. Где-то на 4500 посчастливилось встретить рассвет. Виды, конечно, дух захватывает. Ради такого хочется снова и снова возвращаться в горы.
Пока шли, было два смешных момента: сначала надпись на снегу «Я ещё жива, твоя Тоня», потом вышел кто-то в эфир на нашу волну со словами «Джамшут! Быстро к воротам!».
На 4900 был очень красивый бергшрунд, нам удалось прогуляться внутри него. После отдыха двинули дальше. Дошли до перемычки. Погода просто класс, облаков нет, просматривается всё до горизонта! Остался предвершинный взлёт. Идём траверсом, доходим до камней, тех, что лежат с правой стороны. Дальше лёд. Недолго думая, кинули две верёвки перил. Последние шаги - и мы на вершине в 11:08. Радость нас наполнила с головы до ног. Но ликуем недолго: быстро закрывается окно, мы бежим вниз.
При достаточной решимости любой идиот может подняться на эту гору, — заметил Холл. — Но вся хитрость в том, чтобы спуститься назад живым.
Джон Кракауэр
По лицу бьёт ледяная крошка вперемешку с сильным ветром и плохой видимостью, под ногами лёд. Я замыкал и снимал перила. Лёху по-прежнему не отпускала головная боль. Про себя, всё, думаю, главное, до перемычки спуститься, главное, до перемычки, а там уже дойдём.
На перемычке нас ждало плотное непроглядное облако, ветер утих, перестала жечь снежная крошка. Остановились перевести дух и перекусить. А потом вниз, вниз и снова вниз. Шаг за шагом, медленно и уверенно, через усталость. Часам к 15:00 были в штурмовом лагере на 4200. Отъелись, отпились, отогрелись. Осознанность, что был на вершине, пока не приходит. Пока только усталость, и жажда. Быстро уснуть не удалось, говорили обо всём. Потом уже, когда стемнело, я провалился в сон.

День №7
Собираем вещи и бежим вниз, пока солнце не вышло на склоны. Спуск был долгим и достаточно утомительным, так как падали сразу в Степанцминду с 4200. В 16 часов были в хостеле, грязные, обгорелые, но счастливые.
В завершении хочу сказать, ходите в горы, любите горы. Но соблюдайте чистоту. Планета дарует нам жизнь, она - наш дом. Берегите её!

Мы решили, что все наши сотрудники клуба расскажут о своем пути в горной жизни. Возможно, это будет кому-то интересно и подтолкнет к альпинизму и скалолазанию, или просто активному отдыху в горах. И почему-то сказали, что президент обязательно должен быть первым. Я согласился. А что, несколько предложений написать не сложно. Но не получилось. Стал вспоминать, и вот:
_____________________________________________________
Мой путь в горы, как и у большинства, начинался в детстве. Там зарождались смутные желания и неведомые мечты. Их формировали любимые авторы, которых я глотал запоем – Александр Дюма, Жюль Верн, Джеймс Фенимор Купер, Рафаэль Сабатини, Артур Конан Дойл, Герберт Уэллс, Джек Лондон, Чарльз Диккенс, Марк Твен, Эрнест Хемингуэй, Антуан де Сент-Экзюпери…. Их герои были путешественниками и смельчаками, их поджидали небывалые приключения. Я обожал эти книги. Любимые персонажи – Натаниэль Бампо (он же Следопыт, Зверобой, Соколиный глаз, Кожаный Чулок – герой пенталогии Купера) и капитан Блад («Одиссея капитана Блада», «Хроники капитана Блада», «Удачи капитана Блада») Рафаэля Сабатини. Ну и конечно герои всех романов Дюма, Жюль Верна и Джека Лондона. Также читал любую фантастику, которую можно было найти.
….Не могу понять, как они живут, не читая всего этого. Человек без этих книг должен обратно превратиться в обезьяну. Но нет. Живут. Айфон, наверное, в руке заменяет палку, которая и сделала из примата человека. Мелкая моторика и все такое…
В поселке на Юге Украины деть свою энергию и стремления было некуда, поэтому оставались только школа и книги. Отличник, активист, председатель совета дружины, заместитель комсорга школы, а пределом мечтаний был поход с настоящей ночевкой. С палаткой, у костра… Но, в школе не было ничего подобного. Мы сами себе в классе организовывали походы, но дальше окраин поселка родители нас, конечно, не пускали. Поэтому уходил с головой в мир книг.
В 15 лет после окончания 8-летней школы я поступил в юридический техникум и приехал жить в Армавир Краснодарского края. Так закончилось детство, и началась самостоятельная жизнь. Сразу в начале учебного года я попал на экскурсию в Домбай. Экскурсионные бюро в советское время массово проводили такие поездки выходного дня – поднялись на канатке на Мусса-Ачитара, пара дежурных легенд про разлученных влюбленных, шашлыки, фото, на обратном пути зверюшки в Тебердинском Заповеднике. Но, я впервые в жизни увидел Горы. Я был в Румынии в 13 лет и там несколько дней жил в Татрах, но здесь были по-настоящему высокие горы. Со снегом в жарком октябре, с просторами, с недосягаемыми вершинами. И я влюбился…
До настоящего знакомства с горами было еще два года, но процесс превращения меня в альпиниста начался тогда. Отчет пошел. Я продолжал учиться, читать, осваивал новый для меня мир самостоятельной жизни. Жил на квартире, сам готовил-стирал-убирал, сам планировал свой бюджет. Иногда мог на спор прожить неделю на два рубля. И еще в то время пришло осознание Высоцкого. В детстве не мог понять, почему отец так любит песни Высоцкого, этого певца всяких пьяниц и прочих неприятных личностей. У меня был бабинный магнитофон «Снежеть-203» и несколько бабин с записями Владимира Семеновича. А еще в техникуме со мной училась Маша, у которой папа или дядя, не помню, лечились от алкогольной зависимости в одной клинике с Высоцким. Это как бы позволяло почти дотронуться к легенде.
…Все это, казалось бы, и не имеет отношения к августу 1989, когда я совершил свое первое восхождение, но это не так. Вся моя предыдущая жизнь подводила меня к горам, и когда это случилось, я был готов, меня взяли тепленьким, и у меня не было иного пути…
Весной 1989 года на втором курсе техникума я вдруг узнал, что в техникуме набирается туристический кружок. Это был как гром среди ясного неба. Я побежал и разузнал, что кружок уже работает, что они уже куда-то съездили на скалы (это ваще офигеть!) и собираются еще. В кружке был руководителем молодой турист Леша Ломакин и стайка девчонок из нашего техникума. Я быстренько записался. Тренировались на городском стадионе. Просто бросали вещи на лавочках и бегали, потом разминка, турники и всякие оргвопросы. Параллельно занималась альпинистская секция из пединститута. А там были практически одни юноши. Конечно, все наши девочки смотрели в ту сторону. В общем, через очень короткое время наш кружок в юридическом техникуме перестал существовать, а секция альпинизма пополнилась студентами из ЮТ. Первый мой выезд – Индюк. Понравилось супер! И потом почти сразу мы принимали участие в туриаде в Архызе. Шли 10 дней по перевалам в Абхазию. Я даже был принят в туристы в конце похода – ложками по жопе получил свою порцию посвящения в туристы. В этом походе было очень тяжело, но и безумно интересно. Это были мои первые горы, где многому пришлось учиться. Больше всего запомнились снежные занятия и большие переходы как раз по снежному рельефу. А еще, когда я сел, чтоб одеть свой рюкзак в первый выход, я не смог с ним встать и упал на спину.
…Своего первого тренера по альпинизму Алексея Степановича Краснокуцкого я застал всего на пару месяцев. Можно сказать, что он и не успел побыть моим тренером. Так, пара занятий на стадионе. Тогда я еще не мог знать, что именно я сделаю его дедушкой. Алексей Степанович улетел в США, а секцию возглавил разрядник Юра Бендриков. Он и стал на первое время моим старшим наставником в альпинизме…
Подходило лето и в наших разговорах все больше звучали слова «альплагерь», «путевка», «смена», «новичок», «разрядник». Мне предстояло поехать в альплагерь. Было ужасно страшно. Ехать предстояло одному. Где-то в Карачаево-Черкессии после каких-то аулов Учкулан и Хурзук находится альпинистский учебно-спортивный лагерь «Узункол». Там альпинисты со всей страны по профсоюзным путевкам оттачивают свое мастерство. В Карачаевске сел в рейсовый автобус до Хурзука и увидел, что половина автобуса это наша братия – молодые, веселые, с рюкзаками. Среди них были и бывалые альпинисты. Они, как дембеля, разговаривали громко, уверено, всему давали свою оценку, в общем, всем своим видом показывали, что они в альпинистской жизни разбираются. У одной девушки в косу был вплетен репшнур. Это была нереальная круть, так мне казалось тогда.
Первая моя смена в «Узунколе» это нескончаемый поток новых знаний, впечатлений, эмоций. По окончании 20-дневной смены 26 августа 1989 г мы совершили свое первое в жизни восхождение на вершину Восточная Мырды 1Б категории трудности, выполнив норматив значка «Альпинист СССР». Само восхождение было легче, чем все предыдущее обучение. А еще перед горой у нас был зачетный поход через 2 перевала на трое суток. После вершины было посвящение в альпинисты. Это супер-традиция советского альпинизма – смех, радость, шуточные приколы над состоявшимися «значками» и, конечно, клятва альпиниста: «…если работа, учеба, семья мешают альпинизму, брось все это….все скоропортящиеся продукты (тушенку, сгущенку, девчонку) отдай инструктору…курица не птица, значок не альпинист…» и печать зеленкой на лоб в конце. Так было во всех лагерях СССР. А если серьезно, такая централизованная система обучения альпинизму была только в Советском Союзе. А если сравнивать не лидеров, а массы, то, конечно, мы были подготовлены на порядок лучше. У нас не было даже понятия «гид-клиент», все готовились к самостоятельным восхождениям.
Про деньги. Альпинистская путевка на 20-дневную смену стоила 48 рублей. И каждая четвертая путевка, выдаваемая на коллектив, бесплатная. А стипендия, к примеру, в техникуме – 37,50 или 45 рублей, если хорошо учишься, в институте – 50 рублей. 14-дневная путевка в горнолыжный лагерь (проживание, питание, работа инструкторов) стоила 24 рубля.
Снаряжение – это была отдельная песня. Его просто не было. Нет, были, конечно, красивые (уже трубой, а не круглые как колобки) рюкзаки ВЦСПС, ботинки ВЦСПС, обвязки питерской судоверфи, спусковые лепестки, которые можно было поломать рукой, но в свободной продаже ничего не было. Туристы-альпинисты все поголовно сами шили себе рюкзаки, спальники, пуховки, палатки, обвязки. В недрах этого дефицита и трудились будущие хозяева Red Fox (Александр Глушковский и Влад Мороз), Bask (братья Богдановы), Sivera (супруги Фисенко), Снаряжение (Дмитрий Валуй) и тысячи других умельцов. В Краснодаре многие пользовались и до сих пор пользуются снаряжением, сшитым Сашей Гриценко. Это был огромный пласт закрытой для посторонних информации – где купить или раздобыть парашютный шелк, стропы для обвязок, пух, первые мембранные ткани, фурнитуру, как сбыть продукцию или как для себя купить нужную экипировку. В Москве существовали стихийные рынки (толчки) по горнолыжной и альпинистской одежде, снаряжению. Каждый, кто отправлялся из периферии в Москву по каким-либо делам, без разницы каким, снабжался деньгами и заказами по снаряжению.
Я помню, как моя беременная жена Оля тащит по Москве на поезд связку из нескольких ковриков. Каждая моя поездка в столицу была такой. А однажды я друга попросил привезти мне несколько обвязок. Дал ему телефон и он назначил москвичу встречу в метро, и все переживал, как же он его узнает. Но все оказалось просто – москвич шел по метро … с пеночкой на заднице! Мой друг, не альпинист, но этот атрибут видел у нас, поэтому четко понял – это он. Это был Васильев Андрей, хозяин знаменитой в будущем на всю страну фирмы Венто. Это были времена, когда руководители фирм-производителей лично приезжали на вокзал, чтобы отправить в регионы снаряжение, а потом с проводником в конверте получить оплату. Романтический период зарождения бизнеса вокруг аутдора…
….И еще – по снаряге и одежде можно было понять уровень альпиниста. В условиях дефицита хорошим снаряжением можно было обрасти только за очень большой период времени. Время уходило на поиски информации, на пошив, на сложные сделки и интриги по заполучению какой-либо заветной шняжки. Без преувеличения на это нужны были годы. А пока ты собирал снарягу, то и в альпинизме рос, или наоборот. Поэтому в лагере сразу было видно, кто перед тобой…
В декабре 1989 г я поехал в горнолыжный лагерь. Почти все альплагеря зимой становились горнолыжными, и ты видел в них те же лица, что и летом. Почти все альпинисты увлекались горными лыжами. Свои первые шаги в этом деле я делал в Приэльбрусье в альплагере «Баксан». Это тоже была любовь с первого взгляда и на всю жизнь.
Атмосфера в горнолыжных лагерях была изумительная. Публика вся наша – горная. В столовой, где на завтрак-обед-ужин собиралась вся смена (несколько отделений по 10 человек), четко наблюдалась иерархия, в которой учитывался только твой уровень катания. Продвинутым и хорошо катающимся отделениям почет и лучшие места, новички сидят тихо и заглядывают в рот асам. Негласно соблюдается принцип боксеров «Трынди не больше собственного веса». Рассказывать анекдоты и громко смеяться «разрешается» только тем, кто на склоне вытворяет чудеса техники. Деньги, звания, а многие были и с высокими учеными степенями, движимое и недвижимое имущество, не имели значения.
В сезоне 89-90 годов я 6 раз выезжал в горы кататься на лыжах. Из них 3 раза по профсоюзным путевкам, хотя по закону один человек мог пользоваться профсоюзной путевкой только раз в году. Я катался в Приэльбрусье, Цее, Лаго-Наках. К концу сезона я чувствовал себя асом. Так много я больше никогда в жизни не катался. Старшие разрядники из нашей секции, глядя на это, вынесли мне приговор – я буду кататься на лыжах, альпинизм не для меня…
…Тогда в декабре в «Баксане» произошло интересное событие. На базе лагеря проходил реабилитационный сбор наших супер-мега-крутых альпинистов. Это была сборная Советского Союза. В СССР было всего две гималайские экспедиции – Эверест-82 и Канченджанга как раз весной 1989 года. Это были, как правило, одни и те же альпинисты, т.к. разница между двумя этими событиями была всего 7 лет. Это были монстры, люди-герои. Отбор в эту команду шел несколько лет по всему СССР. Если вспомнить массовость, то можно представить себе, какая была конкуренция, чтобы попасть хотя бы в республиканскую команду, а про сборную всей страны и говорить нечего. Сколько было нервов, интриг, рухнувших надежд и даже поломанных судеб. Это была элита. Со всеми вытекающими – известность, почет, звания, материальные блага, связи, возможности. Но элита, которая сама себя сделала. Каждый в этой команде был лидер и отдельная боевая единица. Хрищатый, Бершов, Туркевич, Виноградский, Погорелов, Валиев, и др. Я не помню всех, кто был тогда в «Баксане», но точно помню, что был Валиев, Туркевич, Бершов. Я тогда был всего лишь «значком», летом сделал первое в своей жизни восхождение, и еще не особо разбирался в альпинистской жизни всей страны. Нас позвали на какой-то вечер с крутыми альпинистами, я и пошел. Они сидели на сцене и рассказывали об Эвересте и Канченджанге. Это потом я уже понял, каких людей я видел одновременно в одном месте. Тогда я сидел и спокойно воспринимал ситуацию, а именно – я понимал, что передо мной сидят гималайцы. Ну, это примерно как инопланетяне. Я видел, что между нами несколько шагов, и я спокойно без всяких трагических заламываний рук понимал, что эти несколько шагов мне не сделать никогда. Ну, чудес просто не бывает. Вот я со своей 1Б и вот они – в лучах софитов с безумным успехом в Гималаях. Не все могут быть героями, кто-то должен сидеть на обочине и кричать «Ура». От Алексея Степановича у меня была книга «Эверест-82» и я знал, через что они прошли. Между нами была пропасть. В несколько шагов…
…Через 11 лет с Бершовым Сергеем, одним из этих легендарных альпинистов, я поднялся на Эверест в составе нашей кубанской команды, в окружении наших краснодарских монстров. Надо ставить безумные цели, и есть миллионы шансов, что они сбудутся…
На следующий 1990 год мне опять досталась путевка в «Узункол». Вспоминая предыдущий сезон, я для себя решил – если будет страшно, брошу это занятие. Страшно было, но я понял, что не брошу. На этот раз совершил 5 восхождений. Из обрывков памяти всплывают кусочки того лета:
… Наш подход на ночевки Мырды, и нас обгоняют парень с девушкой, крутые перворазрядники. У девушки в ушах наушники, она шла под музыку. «Блииииин, - подумал я, - вот как надо ходить!» Плеер тогда купить была очень большая проблема. С тех пор я всегда хожу с плеером…
… Возвращаясь в лагерь после очередного восхождения, узнали, что разбился Цой...
…При восхождении на Трезубец перед вершиной по наклонной плите инструктор идет без страховки, а мы по перилам. Как он не боится, не могу понять…
…Закрыли 3 разряд за несколько дней до конца смены, есть еще время. Мы с Игорьком из Ворошиловграда (Луганск) «покупаем» неофициально за 10 рублей Короленко и идем на пик Узункол – ему шабашка, а нам бонус к разряду…
В тот 1990 год я закончил техникум и поступил в армавирский педагогический институт. Потихоньку стала распадаться наша секция, и я остался один в институте, в который я поступил ради секции альпинизма. Обидно.
В 1991 году я получаю 30-дневную путевку в альплагерь «Адыл-Су». Это был один из лучших моих сезонов, как это ни странно... И печально.
…Секции нет, я один. Еду в Краснодар и какой-то дядька по фамилии Ахтырский в клубе на Офицерской дает мне путевку в «Адыл-Су». Потом мы будем часто встречаться с Олегом Александровичем…
…Во время тренировок и подготовки к первому восхождению Андрей из Ейска рассказал, что есть клеевая группа – Чайф…
…На тренировочной двоечке (Трапеция, 2А) у нас погибают 4 наших друзей. Из сорвавшихся пятерых только один Андрей остается живым. Нас было два отделения – значки и мы, третьеразрядники. От ноги инструктора пошел камень, срывает нашу двойку, они перехлестывают свою веревку с веревкой тройки из отделения значков, срывают их, улетают на крутой снежник, и там внизу, на бергшрунде, все разбиваются. Наша Левицкая Лена из Запорожья и трое ребят из Киева, из отделения значков. Целый день транспортировочные работы. Мы как роботы. Ничего не понимаем. Отдаю очки подошедшему врачу. В конце дня капают в глаза что-то, спалил…
…Уезжаем в Нальчик. Встречаем родителей ребят. В сотый раз по их просьбе пересказываем как все было. Чувствуем себя виноватыми, что живые. Ненавидим весь мир. Держимся втроем – Витек Гурский (Лена была его девушкой), Юрка Дзядык из Львова и я. Морг. Запах формальдегида. Голые ребята. У каждого косичка на животе (шов после вскрытия). Одеваем. Запаиваем в гробы. Возвращаемся в лагерь…
…Поредевшее отделение значков уезжает домой. У нас девочка (а я уже и не помню, как ее звали) из Питера, на восхождении была со мной в связке, говорит, что с нее хватит альпинизма. А мы втроем решили остаться и ходить…
…После разбора полетов нашего инструктора списывают, дают нам какого-то молодого Петю. Только после стажировки. Мы ему сказали – ты нас не трогай, Петя, и мы тебя не тронем. Так и ходили. Вообще не помню его ни на каком восхождении, кроме Эльбруса. 8 вершин. Одна за другой. Без отдыха. Иногда по две за день. Мы забили на все правила безопасности. Я выходил на всю веревку. Знал, Витек Гурский меня поймает в любой ситуации. Он – борец и подводный пловец. Я верил ему. А Юрка Дзядык всегда поддержит своим юмором…
…Когда не спал от усталости, вспоминал, как Лена пела под гитару:
Мимо текла, текла река,
Плыли куда-то облака,
Шел человек, была дорога
Его не легка, была не легка.
И человек мечтал о том,
Что он построит где-то дом,
И поселится счастье с ним
В доме одном, в доме одном.
Если, бывало, уставал,
То неизменно напевал
Песню любимую свою,
Ту, что пою, ту, что пою.
Дом, как известно всем давно,
Это не стены, не окно,
Даже не стулья за столом,
Это не дом, это не дом.
Дом это там, куда готов
Ты возвращаться вновь и вновь
Яростным, добрым, нежным и злым
Еле живым, еле живым.
Дом это там, где вас поймут,
Там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом,
Это твой дом, это твой дом…
…Закончилась 20-дневная смена, а из 30-дневной было только наше отделение, и в лагере сменился полностью состав. Все приехавшие не могли понять, кто мы такие. Почему начальник учебной части высылает автобус нам навстречу, когда мы возвращаемся с восхождения, и мы едем втроем в пустом автобусе? Почему мы ходим вершины какие захотим? За что такие привилегии? Потом им тихонько кто-нибудь называл цену такому отношению, и нас не трогали…
…Последней вершиной тогда был Эльбрус. Меня накрыло на Косой полке. Этот Петя мне заявил, что я и Юрец будем в Седле отдыхать, а он с Витьком сходит на Западную, а потом вместе на Восточную. Это ж надо было мне такое сказать! У меня горняшку как рукой сняло. В результате на Западную он сходил со мной. Витек, оказывается, подпалил накануне глаза, и когда вышло солнце, из-за боли не мог идти дальше. Закрывал глаза и засыпал. Мы с инструктором и Юрой сходили на Восточную и потом все вместе спустились вниз…
…С Эльбруса спустились 19 августа. Второй день Путча. Все в лагере собрались перед телевизором. А мы с парнями нажарили картошки и напились водки. Было такое чувство, что прожили несколько лет. На следующий день добрались до Нальчика, потом, стоя в проходе рейсового автобуса, ехали до МинВод. Несколько часов стоя в 40-градусную жару? Да легко! В полном автобусе, рядом рюкзаки, мы стояли – загорелые, высушенные горными ветрами, повзрослевшие, в затертых футболках, черствые душой и телом – и разговаривали громко, на весь автобус, как будто были одни. Нам никто не сделал замечания. А так хотелось кого-нибудь заткнуть, найти виноватого и сорваться. Наверное, в нас что-то было. В МинВодах мы и расстались. Я возвращался домой как будто с войны…
В тот год в декабре я еще успел съездить в учебно-методический центр «Эльбрус» все в том же Приэльбрусье и отучиться на инструктора по горным лыжам. Это был последний выпуск этого центра. В том декабре не стало Советского Союза. Мы оказались в другой стране.
Наступил 1992 год. Секции не было. Путевок, как и ВЦСПС (всероссийский центральный совет профессиональных союзов) тоже не было. Что делать, не понятно. Каким-то образом я связался с саратовскими альпинистами и поехал к ним на сборы в Приэльбрусье. Походить ничего не успел с ними, только на занятиях поучаствовал. Еще довелось самому побродить по ущелью Адыл-Су. Помню, как один ночевал на Спартаковских ночевках. Было даже жутковато. Огромное ночное звездное небо, силуэты гор и ни души. Утром проснулся от звука какого-то странного. Выглянув наружу, увидел, что нахожусь в центре стада диких козлов, и некоторые из них жуют тент моей палатки. Наверное, после всех этих приключений и решил, что ну его это, одиночное хождение, надо создавать компанию.
Приехал в Армавир и в начале учебного года, после колхоза, решил сделать набор в институте и возродить секцию.
На этом и закончилась короткая отдельная история альпиниста Афанасьева Олега, и началась другая, более интересная, хотя и тесно связанная с первой, история одного клуба.
P.S. В 1993 году, когда нашей секции было год от рождения, мы приехали на краснодарские сборы в «Эльбрус». И в лагере я встретил Юрку Дзядыка. Он со своими украинскими альпинистами там ходил. Юра привез с собой памятную табличку в честь Лены Левицкой, и мы пошли установить ее на камне у тропы на Зеленую гостиницу. На обратном пути я признался ему, что хочу сделать из секции клуб. Он весело начал фантазировать:
Прикинь, пройдут годы, у тебя будет клуб, кабинет с креслом, на стенах будут картины с горами висеть, свой спортзал, еще скалодром можно построить!
Дурак ты! Я серьезно, а ты издеваешься!
P.P.S. Когда я написал эти строки, мне пришла в голову дурацкая мысль – а может Витька Гурского через одноклассников попробовать найти? Через несколько секунд я рассматривал фото на его страничке – две дочки, зимние погружения, все тот же здоровый черт…
…Может компьютерные технологии и не дадут им обратно в обезьян превратиться, может, проживут как-нибудь без Фенимора Купера?...
Первый рассказ
Это было в Домбае. Однажды оказался я дежурным по альплагерю -- причём в самый хлопотный день, когда происходил очередной "завоз новой смены". А начальником учебной части лагеря (начучем) был легендарный слесарь ленинградского Кировского завода, член Британского Королевского альпклуба Евгений Белецкий. Был он большой поклонник здорового образа жизни. Поэтому каждый день к обеду в столовую привозили бидоны со свежим нарзаном, а вокруг линейки для построений спортсменов были распаханы грядки для редиса, морковки и укропа.
По личному приказу начуча отловил я два отделения новичков и поставил их разучивать упражнения по окучиванию овощей в высокогорной зоне. Вскоре подходит ко мне одна из девиц и, хитро поглядывая снизу и держа ледоруб двумя пальчиками, спрашивает: -- Товарищ дежурный инструктор! У меня в зачётке по предлагерной подготовке одни пятёрки, но этого предмета -- окучивание овощей ледорубом -- мы не проходили. Скажите, как его при этом надо держать: клювиком вниз или тяпочкой?
Я ей отвечаю: -- Это совершенно новая дисциплина, разработанная только что Всесоюзной федерацией альпинизма, до Вас в вашем Киеве она могла ещё и не дойти. Относительно клювика и тяпочки: это очень сложный теоретический вопрос, с которым Вам лучше обратиться к самому Начальнику Учебной Части Заслуженному Мастеру Спорта СССР Белецкому Евгению Андриановичу, он как раз готовит диссертацию по этому поводу... И что вы думаете? Девушка бойкая оказалась, и вправду пошла к Белецкому.
Тот в это время как раз принимал делегацию из ГДР. А тут подходит девица и задаёт вопрос: мол, я знаю, Евгений Андрианович, что Вы крупнейший специалист по тяпочкам и морковочкам... -- Кто Вас ко мне послал?! -- взревел Белецкий. -- Дежурный инструктор, он сам в этом вопросе некомпетентен... Немцы, прекрасно знавшие русский, среагировали мгновенно. Я же в дни "завоза новой смены" больше никогда не дежурил.
Второй рассказ
Вообще-то девушки очень исполнительны и хорошо обучаемы. Если уж чему их научишь, то они никогда этого не забудут. Приведу пример. Работали мы как-то с дружком в альплагере инструкторами. Он со своим отделением очень много возился: то на скалодроме лазанье отрабатывал, то ледовые занятия, то снежные.
Самозадержание ледорубом на снегу тренировали до автоматизма. И вот как-то с утра повёл он новичков на восхождение. Возвращаются вечером в альплагерь, а на товарище лица нет, руки--ноги дрожат... В чём дело? Рассказывает: "Набрали мы высоту по крутому фирновому склону. Тут одна девчушка срывается и едет вниз. Секунда, две, десять -- и всё едет, не "зарубается". Все кричат, чтобы делала, быстрей -- а она только скорость увеличивает. Я её мысленно уже похоронил.
И тут она наконец переворачивается, "зарубается", чётко так ступени себе выбивает, поднимается, отряхивается... Оказалось, она поступила, как на занятиях делали: тогда сначала скорость набирали, а лишь потом делали самозадержание!" Это было в другую смену. Повели мы вместе с товарищем два отделения новичков на гору. На подходах одна мадам совсем измоталась. "Никуда больше, -- говорит, -- не пойду. Не могу -- и всё!" Оставить её нельзя, долго уговаривать некогда.
И пришла моему дружку спасительная идея. "Что с ней возиться! Давай спишем её на процент -- и дело с концами." "Какой процент?" -- насторожилась девица. "Ты что, не знаешь, что по инструкции ВЦСПС в альплагерях установлен процент смертельных случаев? Так что прощай, не поминай лихом." Видели бы вы, как она помчалась догонять группу! И чуть ли не первой взошла на вершину. Так что главное -- к каждой женщине свой подход найти...
Гора Эверест (Джомолунгма, 8848м), самая высокая вершина в мире также является одной из самых легендарных вершин, о восхождении на которую, за ее немногим менее чем 100 летнюю историю, накопилась масса разнообразных историй: от фантастически сказочных до наиболее трагических.
В этой статье мы кратко коснемся нескольких из наиболее загадочных историй восхождений на Эверест.
1) Кто первым ступил на вершину Эвереста в 1953 году?
Официально признанным остается тот факт, что первое восхождение было совершено , по пути, .
В этом первом восхождении альпинисты пользовались кислородными приборами, а в работе экспедиции принимали участие более 30 шерпов.
В это восхождение, альпинисты договорились, что при успешном восхождении, они в последствии, будут всем говорить что достигли вершины вместе, одновременно, тем самым протестуя и отрицая против политики колониализма местного населения Непала и Индии.
Однако, со временем открылись косвенные факты, которые утаивали руководитель тогдашней экспедицией Джон Хант (John Hunt) и британский посол в Непале – Кристофер Саммерхайер (Christopher Summerhayr).
По этим данным новозеландец Эдмунд Хиллари взошел на вершину Эвереста первым, до Тенцинга Норгея. Этими фактами оказались три страницы рукописной записи сделанной Эдмундом Хиллари и сейчас хранящиеся в архиве Британского Королевского географического общества.
Вот наиболее знаменательная выдержка из этой записи: «Я ступил на вершину Эвереста, и затем помог Тенцингу подняться и стать рядом со мной»
.
В официальной версии Хиллари все время звучала лишь такая версия: «Еще несколько ударов ледоруба по снежному слону и мы вместе стояли на вершине»
.
2. Невероятная история Мориса Уилсона (Maurice Wilson)
В 1933-м году - за два десятилетия до первого восхождения на Эверест, совершенного многочисленной британской экспедицией - 34-летний англичанин Морис Уилсон (Maurice Wilson) на весь мир заявил о своём желании взойти на высочайшую вершину мира... в одиночку. Несмотря на скорую гибель на северных склонах Эвереста, он успел стать одной из самых противоречивых фигур мирового альпинизма. О нём много и неоднозначно писала в прессе; его обсуждали в профессиональном сообществе и даже в правительстве.
Подробнее о истории восхождения Мориса Уилсона Вы можете проситать в нашей статье:
.

Помимо того удивительного факта, что Моррис не только не был профессиональным альпинистом, он ни разу до этого не восходил на вершины гор. Он был одним из многих незаметных героев Первой Мировой, выживший в аду окопов. Двойное ранение практически полностью обездвижило его левую руку. Вдобавок к этому он перенёс тяжелую форму туберкулеза и нервное расстройство. Многие ставили под сомнение его способность добиваться цели и отмечали его склонность к бесцельным метаниям - послевоенному синдрому, который выражался в многочисленных незаконченых делах и брошеных жёнах. Помимо всего прочего существовало два "убийственных" аргумента "против": он никогда не управлял самолётом и не занимался альпинизмом.
Уилсон штурмовал гигантский ромбукский ледник, надеясь достичь отметки 8848 м 21-го апреля - в день своего рождения. Он много раз сбивался с пути, но несмотря на это поднялся на высоту 6000 м. Где-то в районе 6500 м - "лагерь 3" предыдущих экспедиций - обильный снегопад вынудил его повернуть вниз, и он два дня пролежал в своей палатке на леднике. Именно там, в полном одиночестве он справил свой 36-й день рождения. Ночью шторм прекратился, и Уилсон сумел добраться до монастыря, в течение 16 часов пробиваясь сквозь 90 см толщу свежевыпавшего снега.
29-го мая Уилсон предпринял повторный штурм, попросив носильщиков подождать его в "лагере 3" 10 дней. К сожалению, его просьба была проигнорирована. В этот день люди видели Мориса Уилсона последний раз. На следующий год неподалёку от "лагеря 3" Эрик Шиптон (Eric Shipton) и доктор Чарльз Уорен (Dr. Charles Warren) нашли его останки, а также его дневник.
Последняя запись в его дневнике датировалась 31 мая и было в ней записано следующее: «Еще один великолепный день».



Последней историей в саге Мориса Уилсона, был спорный факт о том, что Морис был трансвеститом, который до восхожденяи на Эверест работал в магазине женских платьев платья в Новой Зеландии; и по рассказам некоторых людей Морис носил на себе женское нижнее бельё а в его сумке всегда был пакет с женским платьем.
В последствии, в 1960-ом году одна их китайских экспедиций на Эверест подлила масла в огонь в этой истории, заявив что обнаружила остатки платья и женскую обувь периода 1930-х годов на отметке в 6400 метров…
3. Что, если на Эверест первыми поднялись советские альпинисты?
В конце 1952 года, в соответствии с докладом, опубликованным в Alpine Journal , 35 советских альпинистов отправились на Северный склон Эвереста что-бы попытаться покорить маршрут по Северо-Восточному хребту.
Только представьте себе, что могло бы быть, если бы это восхождение удалось?
В издании Sydney Morning Herald, от 21 апреля 1952 в одной из статей отмечатеся: "... У Советов есть более всего «первых мест» чем у любой другой страны мира; русские изобрели сталь, электрические лампочки, радио-теолеграф… и многое, многое другое. Так почему бы им не быть первыми и на Эвересте? Даже если это их восхождение будет побочной целью, а основной задачей экспедиции будет цель доказать что «снежный человек» по сути является капиталистическим поджигателем войн?"
4. Кем был был Эндрю «Сэнди» Ирвин (Andrew "Sandy" Irvine)?
Одной из величайших тайн Эвереста остается вопрос: достигли ли вершины Джордж Мэллори (George Mallory) и Эндрю «Сэнди» Ирвин (Andrew "Sandy" Irvine) в 1924 году, прежде чем они погибли?
Все знают о Мэллори, но кто такой был Ирвин?
Эндрю Комин Ирвин (Andrew Comyn Irvine)
(1902-1924), по прозвищу «Сэнди» (Sandy / Рыжик) , был
молодым альпинистом, который активно занимался греблей на байдарках и учился на инженера в Оксфорде.
Он был в этой экспедиции 1924 года самым молодым ее участником, он был назначен руководителем экспедиции на должность ответственного за исправность кислородных баллонов, именно за эти навыки обращения с кислородными баллономи, как считается Джордж и выбрал Эндрю как своего партнера в штурмовое восхождение; хотя некоторые источники утверждают, что у Джорджа Мэллори было сексуальное влечение к Эндрю.

Эндрю Комин «Сэнди» Ирвин (Andrew Comyn "Sandy" Irvine)
Последний раз Джорджа Мэллори и следовавшего с ним молодого альпиниста Эндрю Ирвина, восходящих к вершине по северо-восточному хребту на высоте чуть выше 8500 метров, 8 июня 1924 года наблюдал член экспедиции, геолог Ноэль Оделл. С тех пор живыми их никто не видел.
В 1999 году тело Мэллори было найдено американской экспедицией «Mallory & Irvine Research Expedition» на высоте 8600 метров. Большинство историков и экспертов считают, что Мэллори погиб при попытке взобраться на вертикальную стену на северном хребте горы, называемой второй ступенью.
В 1933 году был найден ледоруб принадлежавший Эндрю, его тело так и не было найдено, хотя от китайских альпинистов некоторое время назад поступала информация о обнаружении на склоне Эвереста тело, как они выразились «старинного английского альпиниста».
Последней каплей в чаше терпения была очередная публикация подобного списка в известной и уважаемой группе? посвященной скалолазанию.
И как это ни странно, первым в списке значилось замечательное фантастическое произведение Братьев Стругацких – Отель «У Погибшего Альпиниста», имеющее к горам только самое далекое и косвенное отношение. Не меньше вопросов у меня возникло и по поводу других произведений из этого списка.
Терпение мое было переполнено по причине того, что список, подобный этому, я встречаю на просторах интернета уже не первый раз, вначале меня это забавляло, а потом стало досадовать. Судя во всему, список сделан людьми не потрудившимся даже ознакомиться с содержанием книг, а искавшим информацию по названию.
Я решил сделать свой ТОП лист книг про горы и альпинизм.
Сперва задача казалась легкой, что может быть проще сесть и написать список книг про горы, которые понравились тебе лично. Многие из подобных произведений глубоко западают в душу, так как рассказывают о великих делах и страшных трагедиях, обнажают лучшие и худшие человеческие качества, заставляют сопереживать героям и примеривать ситуации на себя.
Я думал, что подготовка списка займет максимум час, но, чем больше я вспоминал, тем сложнее становился выбор, и рос объем работы.
Оказалось, что достаточно тяжело писать о книгах, прочитанных за последние 10 лет, и выбрать из них лучшие.
В итоге я отобрал 11 книг, о которых хочу кратко рассказать и рекомендовать к прочтению (скачать тексты можно здесь же), но это совсем не исчерпывающий список, это только начало, я буду дополнять его и обновлять по мере прочтения достойных произведений.
Книги про горы и альпинизм – которые стоит прочитать.
по состоянию на 21.11.2016 года
- Владимир Шатаев “Категория трудности”
- Морис Эрцог “Аннапурна – первый восьмитысячник”
- Райнхольд Месснер «Хрустальный горизонт»
- Евгний Абалаков “На высочайших вершинах советского союза”
- Владимир Санин “Белое проклятие”
- Джон Кракауэр “В рязряженном воздухе”
- Букреев А.Н, Г. Вестон Де Уолт “Восхождение”
- Тенцинг Норгей “Тигр Снегов”
- Герберт Тихи “Чо-Ойю – милость богов”
- Юрий Рост “Эверест 1982”
Гусев А. М. “Эльбрус в огне”
Друзья если вы не нашли свою любимую книгу и считаете, что она должна быть здесь, напишите об этом, я ее прочитаю, вполне вероятно, она появится в списке.

Одна из лучших книг про горы и альпинизм из прочитанных мной. Небольшого объема, написанная легким увлекательным языком.
Очень личное автобиографичное повествование о достижениях и поражениях советского альпинизма, прошедших через жизнь автора, рассказанное без какого-либо пропагандистского пафоса, свойственного литературе того периода, захватывает увлеченного читателя с первой страницы и не отпускает до последней.
2. Морис Эрцог “Аннапурна – первый восьмитысячник”
 Обложка английского издания книги 1953 года Аннапурна – первый восьмитысячник
Обложка английского издания книги 1953 года Аннапурна – первый восьмитысячник
Книга легендарного французского альпиниста Мориса Эрцога о первом успешном восхождении на восьмитысячник, совершенном в 1950 году.
Повествование сперва немного затянутое и путанное в части, описывающей работу экспедиции по поиску путей восхождения на Аннапурну, преображается с момента начала штурма вершины.
Победа и трагизм, радость и мучительная боль – все сливается в единый клубок повествования.
Никогда не забуду описание мучений, испытываемых автором на горе в моменты борьбы доктора за спасение его жизни. Наверное один из самых страшных текстов, который я когда-либо читал.
“Аннапурна – первый восьмитысячник” – на мой взгляд, бесспорный шедевр альпинистской литературы.
 Фотографии и иллюстрации из книги “Аннапурна – первый восьмитысячник”
Фотографии и иллюстрации из книги “Аннапурна – первый восьмитысячник”
3. Райнхольд Месснер «Хрустальный горизонт»
 Обложка книги “Хрустальный горизонт” Р. Месснера
Обложка книги “Хрустальный горизонт” Р. Месснера
Единственная переведенная на русский язык из более чем 50 написанных, книга великого альпиниста, Рейнхольда Месснера.
Рассказывает о подготовке и восхождении на Эверест – соло.
4. Евгний Абалаков “На высочайших вершинах советского союза”

Книга выдающегося альпиниста-исследователя, одного из сильнейших восходителей нашей стран первой половины XX века, Евгения Абалакова. Состоит из дневниковых записей об экспедициях и восхождениях, совершенных автором, а также ряда статей, докладов и очерков, написанных им же в период с 1931 по 1947 год.
В книге нашли отражение многие главные достижения советского альпинизма того времени.
Скачать книгу:
5. Владимар Санин “Белое проклятие”
 Владимир Санин “Белое проклятие”
Владимир Санин “Белое проклятие”
Художественное произведение рассказывающее об опасном труде лавинщиков Приэльбрусья. Прототипом главного героя книги (Максима Уварова) является Н.А. Урумбаев - гляциолог-лавинщик, начальник Эльбрусской учебно-научной станции МГУ им. Г.К. Тушинского.
Книга написана захватывающим, легким языком, свойственным Владимиру Санину, была мной прочитана за одну ночь, открыл и не смог закрыть, пока не дочитал.
6. Джон Кракауэр “В рязряженном воздухе” + 7. Букреев А.Н, Г. Вестон Де Уолт “Восхождение”

Умышленно ставлю рядом две эти книги, потому что нельзя сказать об одной и умолчать о другой, это произведения об одной и той же трагедии, произошедшей 11 мая 1996 года на склонах Эвереста.
Написаны книги двумя непосредственными участниками событий и отражают в некоторых местах диаметрально противоположные точки зрения на произошедшее.
Много копий сломано в обсуждении произошедшего, есть ярые поклонники точки зрения Джона Кракауэра, не меньше (в особенности в постсоветском пространстве) людей поддерживает и Анатолия Букреева.
В любом случае обе книги заслуживают внимания, и принимать чью то точку можно только после ознакомления с обоими взглядами на произошедшую трагедию.
8. Гусев А. М. “Эльбрус в огне”

Эта книга стоит особняком от всех предыдущих, да и большинства книг о горах в целом.
Горы и альпинисты в ней показаны в совершенно уникальном свете – на фоне боевых действий Великой Отечественной войны.
Именно отряд под его руководством в тяжелейших условиях зимой 1943 года снял фашистские флаги с вершин Эльбруса.
кстати, друзья, эта вставка небольшая реклама моего труда, то, что дает мне средства к существовании и путешествиям, а так же является результатом путешествий, ведь именно в дикой природе, в горах я нахожу вдохновение и новые идеи для моей мастерской ювелирных украшений:

заглядывайте, думается это отличная идея для подарка себе или увлеченным любимым друзьям:-)
9. Тенцинг Норгей “Тигр Снегов”
 Тенцинг Норгей “Тигр снегов”
Тенцинг Норгей “Тигр снегов”
“Я счастливый человек. У меня была мечта, и она осуществилась, а это нечасто случается с человеком. Взойти на Эверест – мой народ называет его Чомолунгма – было сокровенным желанием всей моей жизни. Семь раз я принимался за дело; я терпел неудачи и начинал сначала, снова и снова, не с чувством ожесточения, которое ведет солдата на врага, а с любовью, словно дитя, взбирающееся на колени своей матери.”,- говорил Норгей Тенцинг.
Удивительная книга об одном из первых людей, взошедших на вершину Эвереста в 1953 году, шерпе Норгее Тенцинге.
Книга записана со слов неграмотного Тенцинга – Джеймсом Рамзаем Ульманом, и рассказывает историю простого человека, посвятившего себя горам, и историю его высочайшего достижения – восхождения на Эверест.
10. Герберт Тихи “Чо-Ойю – милость богов”
 Обложка российского издания книги Чо-ойю – милость богов Герберт Тихи
Обложка российского издания книги Чо-ойю – милость богов Герберт Тихи
19 октября 1954 года, 2 европейца (Герберт Тихи, Йозеф Йёхлером) и 1 шерп (Пазанг Дава Лама) впервые поднимаются на вершину Чо-Ойю (8201 м).
“Покорен” пятый из четырнадцати восьмитысячник. Восхождение совершено в необычном для Гималаев того времени альпийском стиле, силами малой группы (3 европейца, 10 шерпов)
11. Юрий Рост “Эверест 1982”
 Юрий Рост “Эверест 1982”
Юрий Рост “Эверест 1982”
Великолепное, богато иллюстрированное фотографиями и картами, издание о первой советской экспедиции на Эверест 1982 года.
Состоит из очерка журналиста Юрия Роста, а также воспоминаний и дневниковых записей непосредственных участников восхождения.
При чтении книги надо понимать, что это был большой пропагандистский проект и тексты книги выверены и отредактированы.
Тем не менее, нельзя отрицать, что результатом экспедиции стало прохождение сложнейшего маршрута на Эверест, и стало олицетворением силы советской школы альпинизма.