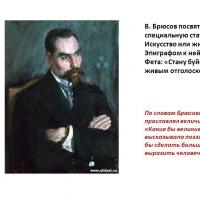Экономия языковых средств в русском языке. Реализация принципа экономии языковых средств. Общая характеристика работы
Обслуживая общество в качестве средства общения, язык постоянно претерпевает изменения, все более и более накапливая свои ресурсы для адекватного выражения смысла происходящих в обществе перемен. Для живого языка этот процесс естествен и закономерен. Однако степень интенсивности этого процесса может быть различной. И тому есть объективная причина: само общество - носитель и творец языка - по-разному переживает разные периоды своего существования. В периоды резкой ломки устоявшихся стереотипов усиливаются и процессы языковых преобразований. Так было в начале XX в., когда резко изменилась экономическая, политическая и социальная структура российского общества. Под воздействием этих перемен меняется, правда, более медленно, и психологический тип представителя нового общества, что также приобретает характер объективного фактора, влияющего на процессы в языке.
Современная эпоха актуализировала многие процессы в языке, которые в других условиях могли бы быть менее заметными, более сглаженными. Социальный взрыв не делает революции в языке как таковом, но активно влияет на речевую практику современника, вскрывая языковые возможности, выводя их на поверхность. Под воздействием внешнего социального фактора приходят в движение внутренние ресурсы языка, наработанные внутрисистемными отношениями, которые прежде не были востребованы по разным причинам, в том числе и опять-таки по социально-политическим причинам. Так, например, обнаружились семантические и семантико-стилистические преобразования во многих лексических пластах русского языка, в грамматических формах и т.п.
В целом языковые изменения осуществляются при взаимодействии причин внешнего и внутреннего порядка. Причем основа для изменений заложена в самом языке, где действуют внутренние закономерности, причина которых, их движущая сила, заключена в системности языка. Но своеобразным стимулятором (или, наоборот, «тушителем») этих изменений является фактор внешнего характера - процессы в жизни общества. Язык и общество, как пользователь языка, неразрывно связаны, но при этом они имеют свои собственные, отдельные законы жизнеобеспечения.
Таким образом, жизнь языка, его история органично связаны с историей общества, но не подчинены ей полностью из-за своей собственной системной организованности. Так в языковом движении сталкиваются процессы саморазвития с процессами, стимулированными извне.
Каковы же внутренние законы развития языка?
Обычно к внутренним законам относят закон системности (глобальный закон, являющийся одновременно и свойством, качеством языка); закон традиции , обычно сдерживающий инновационные процессы; закон аналогии (стимулятор подрыва традиционности); закон экономии (или закон «наименьшего усилия»), особенно активно ориентированный на ускорение темпов в жизни общества; законы противоречий (антиномии), которые являются по сути «зачинщиками» борьбы противоположностей, заложенных в самой системе языка. Будучи присущими самому объекту (языку), антиномии как бы готовят взрыв изнутри.
К внешним факторам, участвующим в накоплении языком элементов нового качества, могут быть отнесены следующие: изменение круга носителей языка, распространение просвещения, территориальные перемещения народных масс, создание новой государственности, развитие науки, техники, международные контакты и т.п. Сюда же включается фактор активного действия средств массовой информации (печать, радио, телевидение), а также фактор социально-психологической перестройки личности в условиях новой государственности и, соответственно, степени адаптации ее к новым условиям.
При рассмотрении процессов саморегуляции в языке, происходящих в результате действия внутренних закономерностей, и учете воздействия на эти процессы внешних факторов необходимо соблюдать определенную меру взаимодействия этих факторов: преувеличение действия и значимости одного (саморазвития) может привести к отрыву языка от породившего его общества; преувеличение же роли социального фактора (иногда и при полном забвении первого) - к вульгарному социологизму.
Ответ на вопрос о том, почему решающим в языковом развитии (решающим, но не единственным) фактором оказывается действие внутренних законов, кроется в том, что язык является системным образованием. Язык - это не просто набор, сумма языковых знаков (морфем, слов, словосочетаний и т.п.), но и отношения между ними, поэтому сбой в одном звене знаков может привести в движение не только рядом стоящие звенья, но и всю цепь в целом (или ее определенную часть).
Закон системности обнаруживается на разных языковых уровнях (морфологическом, лексическом, синтаксическом) и проявляется как внутри каждого уровня, так и во взаимодействии их друг с другом. Например, сокращение количества падежей в русском языке (шесть из девяти) привело к росту аналитических черт в синтаксическом строе языка - функция падежной формы стала определяться позицией слова в предложении, соотношением с другими формами. Изменение семантики слова может отразиться на его синтаксических связях и даже на его форме. И, наоборот, новая синтаксическая сочетаемость может привести к изменению значения слова (его расширению или сужению). Часто эти процессы бывают процессами взаимообусловленными. Например, в современном употреблении термин «экология» за счет разросшихся синтаксических связей существенно расширил свою семантику: экология (от греч. óikos - дом, жилище, местопребывание и...логия) - наука об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой (БЭС. Т. 2. М., 1991). С середины XX в. в связи с усилившимся воздействием человека на природу экология приобрела значение как научная основа рационального природопользования и охраны живых организмов. В конце XX в. формируется раздел экологии - экология человека (социальная экология); соответственно появляются аспекты экология города, экологическая этика и др. В целом можно уже стало говорить об экологизации современной науки. Экологические проблемы вызвали к жизни общественно-политические движения (например, «Зеленые» и др.). С точки зрения языка, произошло расширение семантического поля, в результате чего появилось другое значение (более абстрактное) - «требующий защиты». Последнее просматривается в новых синтаксических контекстах: экологическая культура, промышленная экология, экологизация производства, экология жизни, слова, экология духа; экологическая ситуация, экологическая катастрофа и т.п. В последних двух случаях появляется новый оттенок значения - «опасность, неблагополучие». Так, слово со специальным значением становится широко употребительным, в котором путем расширения синтаксической сочетаемости происходят семантические преобразования.
Системные отношения выявляются и в ряде других случаев, в частности, при выборе форм сказуемого при существительных-подлежащих, обозначающих должности, звания, профессии и т.п. Для современного сознания, скажем, сочетание Врач пришла звучит вполне нормально, хотя здесь очевидно формально-грамматическое несоответствие. Форма меняется, ориентируясь на конкретное содержание (врач - женщина). Кстати, в данном случае наряду с семантико-синтаксическими преобразованиями можно отметить и влияние социального фактора: профессия врача в современных условиях распространена среди женщин столь же широко, как и среди мужчин, а корреляция врач - врачиха осуществляется на ином языковом уровне - стилистическом.
Системность как свойство языка и отдельного знака в нем, открытое Ф. де Соссюром, проявляет и более глубокие соотношения, в частности соотношение знака (означающего) и означаемого, которое оказалось небезразличным.
С одной стороны, представляется как нечто лежащее на поверхности, вполне понятное и очевидное. С другой стороны, его действие обнаруживает сложное переплетение внешних и внутренних стимулов, задерживающих преобразования в языке. Понятность закона объясняется объективным стремлением языка к стабильности, «охранности» уже достигнутого, приобретенного, но потенции языка столь же объективно действуют в направлении расшатывания этой стабильности, и прорыв в слабом звене системы оказывается вполне естественным. Но тут вступают в действие силы, не имеющие прямого отношения к собственно языку, но могущие наложить своеобразное табу на инновации. Такие запретительные меры исходят от специалистов-лингвистов и специальных учреждений, имеющих соответствующий правовой статус; в словарях, пособиях, справочниках, официальных предписаниях, воспринимаемых как социальное установление, имеются указания на правомочность или неправомочность употребления тех или иных языковых знаков. Происходит как бы искусственное задерживание очевидного процесса, сохранение традиции вопреки объективному положению вещей. Взять хотя бы хрестоматийный пример с широким употреблением глагола звонить в формах зво нит, зво нят вместо звони т, звоня т . Правила сохраняют традицию, ср.: жа рить - жа ришь, вари ть - вари шь - ва ришь , в последнем случае (ва ришь ) традиция преодолена (было: Ворон не жа рят, не ва рят. - И. Крылов; Печной горшок тебе дороже: ты пищу в нем себе вари шь. - А. Пушкин), но в глаголе звонить упорно сохраняется традиция, причем не языком, а кодификаторами, «установителями» литературной нормы. Такое сохранение традиции оправдывается другими, аналогичными случаями, например сохранением традиционного ударения в глагольных формах включи ть - включи шь, включи т, вручи ть - вручи шь, вручи т (ср.: неправильное, нетрадиционное употребление форм вклю чит, вру чит ведущими телепередач «Итоги» и «Время», хотя такая ошибочность имеет под собой определенную почву - это общая тенденция к переносу ударений у глаголов на корневую часть: вари ть - вари шь, вари т ва ришь, ва рит; мани ть - мани шь, мани т ма нишь, ма нит ). Так что традиция может действовать избирательно и не всегда мотивированно. Еще пример: уже давно не говорят две пары валенков (валенок) , сапогов (сапог), ботов (бот), чулков (чулок) . Но упорно сохраняется форма носков (а форма носок по традиции квалифицируется как просторечная). Особенно охраняется традиция правилами написания слов. Ср., например, многочисленные исключения в орфографии наречий, прилагательных и др. Главный критерий здесь - традиция. Почему, например, с панталыку пишется раздельно, хотя правило гласит, что наречия, образованные от существительных, исчезнувших из употребления, пишутся с предлогами (приставками) слитно? Ответ маловразумителен - по традиции, но традиция - охранная грамота давно ушедшего. Конечно, глобальное разрушение традиции может серьезно навредить языку, лишить его таких необходимых качеств, как преемственность, устойчивость, основательность в конце концов. Но частичная периодическая корректировка оценок и рекомендаций необходима.
Закон традиции хорош, когда он действует как сдерживающее начало, противодействующее случайному, немотивированному употреблению или, наконец, препятствующее слишком расширенному действию других законов, в частности - закона речевой аналогии (как, например, диалектное путью в твор. п. по аналогии с жизнью ). Среди традиционных написаний есть написания в высшей степени условные (например, окончание прилагательных -ого с буквой г на месте фонемы <в> ; написание наречий с -ь (вскачь, наотмашь ) и глагольных форм (пишешь, читаешь ). Сюда же можно отнести и традиционные написания существительных женского рода типа ночь, рожь, мышь , хотя в данном случае включается в действие и закон морфологической аналогии, когда -ь выступает в качестве графического уравнителя парадигм склонения существительных, ср.: ночь - ночью, как ель - елью, дверь - дверью .
Закон традиции часто сталкивается с законом аналогии, создавая в некотором смысле конфликтную ситуацию, разрешение которой в частных случаях может оказаться непредсказуемым: либо победит традиция, либо аналогия.
Действие закона языковой аналогии проявляется во внутреннем преодолении языковых аномалий, которое осуществляется в результате уподобления одной формы языкового выражения другой. В общем плане это мощный фактор языковой эволюции, поскольку результатом оказывается некоторая унификация форм, но, с другой стороны, это может лишить язык специфических нюансов семантического и грамматического плана. В таких случаях сдерживающее начало традиции может сыграть положительную роль.
Сущность уподобления форм (аналогия) заключается в выравнивании форм, которое наблюдается в произношении, в акцентном оформлении слов (в ударении), отчасти в грамматике (например, в глагольном управлении). Особенно подвержен действию закона аналогии разговорный язык, тогда как литературный более опирается на традицию, что вполне объяснимо, так как последний более консервативен по своей сути.
На фонетическом уровне закон аналогии проявляется, например, в случае, когда вместо исторически ожидаемого звука в словоформе появляется другой, по аналогии с другими формами. Например, развитие звука о после мягкого согласного перед твердым на месте (ять): звезда - звёзды (из звзда - звзды ) по аналогии с формами весна - вёсны .
Аналогией может быть вызван переход глаголов из одного класса в другой, например, по аналогии с формами глаголов типа читать - читаю, бросать - бросаю появились формы полоскаю (вместо полощу ), махаю (вместо машу ), мяукаю (вместо мяучу ) и др. Особенно активна аналогия в ненормированной разговорной и диалектной речи (например, замена чередований: берегу - берегёшь вместо бережёшь по образцу несу - несёшь и т.п.). Так идет выравнивание форм, подтягивание их к более распространенным образцам.
Выравниванию системы ударений, в частности, подвержены некоторые глагольные формы, где сталкиваются книжная традиция и живое употребление. Например, достаточно устойчивой оказывается форма женского рода прошедшего времени глагола; ср.: звать - звал, зва ло, зва ли , но: звала ; рвать - рвал, рва ло, рва ли , но: рвала ; спать - спал, спа ло, спа ли , но: спала ; ожить - о жил, о жило, о жили , но: ожила . Естественно, что нарушение традиции коснулось именно формы женского рода (зва ла, рва ла, спа ла и т.п.), которое пока не допускается в литературном языке, но распространено в живом употреблении.
Много колебаний в ударении наблюдается в терминологической лексике, где также часто сталкивается традиция (как правило, это по происхождению латинские и греческие термины) и практика употребления в русских контекстах. Аналогия в этом классе слов оказалась в высшей степени продуктивной, а разночтения - крайне редкими. Например, большинство терминов переносит ударение на конечную часть основы, типа: аритми я, ишеми я, гипертони я, шизофрени я, идиоти я, зоофили я, эндоскопи я, дистрофи я, диплопи я, аллерги я, терапи я, электротерапи я, эндоскопи я, асимметри я и др. Но стойко сохраняют ударение внутри основы слова на -графия и -ция : фотогра фия, флюорогра фия, литогра фия, кинематогра фия, моногра фия; пагина ция, инкруста ция, индекса ция . В грамматическом словаре среди 1000 слов на -ция обнаружено лишь одно слово со смещенным ударением - фармаци я (фармацевтика) . Однако в других случаях наблюдается разное оформление слов в зависимости от их словообразовательного состава, например: гетероно мия (греч. nómos - закон), гетерофо ния (греч. phōnē - звук), гетерога мия (греч. gámos - брак), но: гетеростили я (греч. stýlos - столб), гетерофилли я (греч. phy llon - лист), в двух последних случаях можно усмотреть нарушение традиции и соответственно уподобление произношения. Кстати, в некоторых терминах современные словари фиксируют двоякое ударение, например с тем же компонентом -фония - диафо ния . Латинский термин industria БЭС дает в двух вариантах (инду стри я ), а словарь и отмечает форму индустри я как устаревшую и признает соответствующей современной норме форму инду стрия ; двоякое ударение фиксируется и в словах апопле кси я и эпиле пси я , как в упомянутом слове диафо ни я , хотя схожая модель диахрони я сохраняет единственное ударение. Разногласия в рекомендациях обнаруживаются и относительно слова кулина рия . Большая часть словарей считает литературной форму кулина рия , но в издании словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1992) уже признаются литературными оба варианта - кулина ри я . Термины с компонентом -мания стойко сохраняют ударение -ма ния (англома ния, мелома ния, галлома ния, библиома ния, мегалома ния, эфирома ния, гигантома ния и др.). Словарь А.А. Зализняка дает 22 таких слова. Однако в профессиональной речи иногда под влиянием языковой аналогии ударение смещается к концу слова, например, медицинские работники чаще произносят наркомани я , чем наркома ния .
Перенос ударения на конечный основы отмечается даже в терминах, стойко сохраняющих исконное ударение, например мастопати я (ср. большую часть подобных терминов: гомеопа тия, аллопа тия, миопа тия, антипа тия, метриопа тия и др.). Часто различие в ударении объясняется разным происхождением слов - латинским или греческим: дислали я (от дис... и греч. lalia - речь), диспепси я (от дис... и гр. pepsis - пищеварение), дисплази я (от дис... и гр. plasis - образование); диспе рсия (от лат. dispersio - рассеяние), диску ссия (от лат. discussio - рассмотрение).
Таким образом, в терминологических моделях слов наблюдаются противоречивые тенденции: с одной стороны, сохранение традиционных форм слов, опирающихся на этимологию словообразования, а с другой стороны, стремление к унификации, уподоблению форм.
Выравнивание форм под действием закона аналогии можно наблюдать и в грамматике, например в изменении глагольного и именного управления: так, управление глагола поражаться дат. п. (чему, вместо чем) возникло по аналогии с другими глаголами (изумляться чему, удивляться чему). Часто такие изменения оцениваются как ошибочные, недопустимые в литературном языке (например, под влиянием сочетания вера в победу возникло ошибочное сочетание уверенность в победу вместо уверенность в победе ).
Особенно активным в современном русском языке оказывается действие закона речевой экономии (или экономии речевых усилий). Стремление к экономичности языкового выражения обнаруживается на разных уровнях языковой системы - в лексике, словообразовании, морфологии, синтаксисе. Действие этого закона объясняет, например, замену форм следующего типа: грузин из грузинец , лезгин из лезгинец , осетин из осетинец (однако башкирец - ?); о том же свидетельствует нулевое окончание в родительном падеже множественного числа у ряда классов слов: пять грузин вместо грузинов ; сто грамм вместо сто граммов; полкило апельсин, помидор, мандарин вместо апельсинов, помидоров, мандаринов и т.п.
Особенно большой резерв в этом отношении имеет синтаксис: словосочетания могут послужить базой для образования слов, а сложные предложения могут быть свернуты до простых и т.п. Например: электропоезд (электрический поезд) , зачетка (зачетная книжка), гречка (гречневая крупа) и т.п. Ср. также параллельное употребление конструкций типа: Брат сказал, что приедет отец. - Брат сказал о приезде отца . Об экономичности языковых форм свидетельствуют разнообразные аббревиатуры, особенно если аббревиатурные образования приобретают постоянную форму наименований - существительных, способных подчиняться нормам грамматики (вуз, учиться в вузе ).
Развитие языка, как и развитие в любой другой сфере жизни и деятельности, не может не стимулироваться противоречивостью протекающих процессов. Противоречия (или антиномии ) свойственны самому языку как феномену, без них немыслимы какие-либо изменения. Именно в борьбе противоположностей проявляется саморазвитие языка.
Обычно выделяют пять-шесть основных антиномий: антиномия говорящего и слушающего; антиномия узуса и возможностей языковой системы; антиномия кода и текста; антиномия, обусловленная асимметричностью языкового знака; антиномия двух функций языка - информационной и экспрессивной, антиномия двух форм языка - письменной и устной.
Антиномия говорящего и слушающего создается в результате различия в интересах вступающих в контакт собеседников (или читателя и автора): говорящий заинтересован в том, чтобы упростить и сократить высказывание, а слушающий - упростить и облегчить восприятие и понимание высказывания.
Столкновение интересов создает конфликтную ситуацию, которая должна быть снята путем поиска удовлетворяющих обе стороны форм выражения.
В разные эпохи жизни общества этот конфликт разрешается по-разному. Например, в обществе, где ведущую роль играют публичные формы общения (диспуты, митинги, ораторские призывные, убеждающие речи), в большей степени ощутима установка на слушающего. Античные риторики во многом построены с учетом именно этой установки. В них даются четкие правила для построения убеждающей речи. Недаром приемы риторики, организации публичной речи активно насаждаются в современной общественно-политической ситуации России, когда принцип гласности, открытого выражения своего мнения возводится в ведущий критерий деятельности парламентариев, журналистов, корреспондентов и др. В настоящее время появляются пособия и руководства, посвященные проблемам ораторской речи, проблемам ведения диалога, проблемам культуры речи, в понятие которой включается не только такое качество, как литературная грамотность, но и особенно выразительность, убедительность, логичность.
В другие эпохи может ощущаться явное господство письменной речи и ее влияние на процесс общения. Установка на письменный текст (преобладание интересов пишущего, говорящего), текст предписания преобладала в советском обществе, и именно ей была подчинена деятельность средств массовой информации. Таким образом, несмотря на внутриязыковую сущность данной антиномии, она насквозь пронизана социальным содержанием.
Так конфликт между говорящим и слушающим разрешается то в пользу говорящего, то в пользу слушающего. Это может проявиться не только на уровне общих установок, как было отмечено выше, но и на уровне самих языковых форм - в предпочтении одних и отрицании или ограничении других. Например, в русском языке начала и середины XX в. появилось много аббревиатур (звуковых, буквенных, отчасти слоговых). Это было в высшей степени удобно для того, кто составлял тексты (экономия речевых усилий), однако в настоящее время все больше появляется расчлененных наименований (ср.: общество защиты животных, управление по борьбе с организованной преступностью, общество художников-станковистов ), которые не отрицают употребление аббревиатур, но, конкурируя с ними, обладают явным преимуществом воздействующей силы, поскольку несут в себе открытое содержание. Очень нагляден в этом отношении следующий пример: в «Литературной газете» от 05.06.1991 г. помещено письмо патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, в котором дано резкое осуждение практики использования аббревиатуры РПЦ (Русская православная церковь) в нашей печати. «Ни дух русского человека, ни правила церковного благочестия не позволяют производить такую подмену», - пишет патриарх. Действительно, такая фамильярность в отношении к Церкви оборачивается серьезной духовной утратой. Наименование РПЦ превращается в пустой значок, не затрагивающий духовных струн человека. Алексий II так заканчивает свои рассуждения: «Надеюсь, что натужные сокращения типа РПЦ или бытовавших некогда «В. Великий» и даже «И. Христос» не будут встречаться в церковной речи».
Антиномия кода и текста - это противоречие между набором языковых единиц (код - сумма фонем, морфем, слов, синтаксических единиц) и их употреблением в связной речи (текст). Здесь существует такая связь: если увеличить код (увеличить количество языковых знаков), то текст, который строится из этих знаков, сократится; и наоборот, если сократить код, то текст непременно увеличится, так как недостающие кодовые знаки придется передавать описательно, пользуясь оставшимися знаками. Хрестоматийным примером такой взаимосвязи служат названия наших родственников. В русском языке для наименования различных родственных отношений в пределах семьи существовали специальные термины родства: деверь - брат мужа; шурин - брат жены; золовка - сестра мужа; свояченица - сестра жены, сноха - жена сына; свекор - отец мужа; свекровь - жена свекра, мать мужа; зять - муж дочери, сестры, золовки; тесть - отец жены; теща - мать жены; племянник - сын брата, сестры; племянница - дочь брата, сестры. Некоторые из этих слов (шурин, деверь, золовка, сноха, свекор, свекровь ) постепенно были вытеснены из речевого обихода, выпали слова, но понятия-то остались. Следовательно, на их месте все чаще стали употребляться описательные замены (брат жены, брат мужа, сестра мужа и т.д.). Количество слов в активном словаре уменьшилось, а текст в результате увеличился. Другим примером соотношений кода и текста может служить соотношение термина и его дефиниции (определения). Определение дает развернутое толкование термина. Следовательно, чем чаще будут в тексте употребляться термины без их описания, тем короче будет текст. Правда, в данном случае сокращение текста при удлинении кода наблюдается при условии, когда не меняется число объектов наименования. Если же новый знак появляется для обозначения нового объекта, то строение текста не меняется. Увеличение кода за счет заимствований происходит в тех случаях, когда иноязычное слово может быть переведено только словосочетанием, например: круиз - морское путешествие, сюрприз - неожиданный подарок, брокер (маклер) - посредник при совершении сделки (обычно при биржевых операциях), лонжа - приспособление в цирке, страхующее артистов для исполнения опасных трюков, кемпинг - лагерь для автотуристов.
Антиномия узуса и возможностей языка (по-другому - системы и нормы) заключается в том, что возможности языка (системы) значительно шире, чем принятое в литературном языке употребление языковых знаков; традиционная норма действует в сторону ограничения, запрета, тогда как система способна удовлетворить большие запросы общения. Например, норма фиксирует недостаточность некоторых грамматических форм (отсутствие формы 1-го лица единственного числа у глагола победить , отсутствие противопоставления по видам у ряда глаголов, которые квалифицируются как двувидовые, и т.д.). Употребление компенсирует такие отсутствия, пользуясь возможностями самого языка, часто привлекая для этого аналогии. Например, в глаголе атаковать словарно, вне контекста не различаются значения совершенного или несовершенного вида, тогда, вопреки норме, создается пара атаковать - атаковывать по аналогии с глаголами организовать - организовывать (форма организовывать уже проникла в литературный язык). По такому же образцу создаются формы исполъзовывать, мобилизовывать и др., находящиеся только на стадии просторечия. Так норма сопротивляется возможностям языка. Еще примеры: система дает два типа окончания существительных в именительном падеже множественного числа - домы/дома, инженеры/инженера, томы/тома, цехи/цеха . Норма же дифференцирует формы, учитывая стилевые и стилистические критерии: литературно-нейтральное (профессора, учителя, инженеры, тополя, торты ) и профессиональное (торта, кожуха, мощностя, якоря, редактора, корректора ), просторечное (площадя, матеря ), книжное (учители, профессоры ).
Антиномия, вызванная асимметричностью языкового знака , проявляется в том, что означаемое и означающее всегда находятся в состоянии конфликта: означаемое (значение) стремится к приобретению новых, более точных средств выражения (новых знаков для обозначения), а означающее (знак) - расширить круг своих значений, приобрести новые значения. Ярким примером асимметричности языкового знака и ее преодоления может служить история слова чернила с достаточно прозрачным значением (чернь, черный - чернила ). Первоначально и конфликта не было - одно означаемое и одно означающее (чернила - вещество черного цвета). Однако со временем появляются вещества иного цвета для выполнения той же функции, что и чернила, так возник конфликт: означающее одно (чернила ), а означаемых несколько - жидкости разного цвета. В результате возникли абсурдные с точки зрения здравого смысла сочетания красные чернила, синие чернила, зеленые чернила . Абсурдность снимается следующим шагом в освоении слова чернила , появлением словосочетания черные чернила ; таким образом, слово чернила утратило сему черное и стало употребляться в значении «жидкость, используемая для письма». Так возникло равновесие - означаемое и означающее «пришли к согласию».
Примерами асимметричности языковых знаков могут служить слова котенок, щенок, теленок и др., если они употребляются в значениях «детеныш кошки», «детеныш собаки», «детеныш коровы», в которых нет дифференциации по признаку пола и потому одно означающее относится к двум означаемым. При необходимости же точного указания на пол возникают соответствующие корреляции - теленок и телка , кошка и кот и др. В таком случае, скажем, наименование теленок означает только детеныша мужского пола. Еще пример: слово депутат означает лицо по должности независимо от пола (один знак - два означаемых). То же и в других случаях, например, когда сталкиваются обозначения лица, существа и предмета: бройлер (помещение для цыплят и цыпленок), классификатор (прибор и тот, кто классифицирует), мультипликатор (устройство и специалист по мультипликации), кондуктор (деталь машины и работник транспорта) и т.п. Такое неудобство форм язык стремится преодолеть, в частности, путем вторичной суффиксации: разрыхлитель (предмет) - разрыхлительщик (лицо), перфоратор (предмет) - перфораторщик (лицо). Одновременно с такой дифференциацией обозначений (лицо и предмет) происходит и специализация суффиксов: суффикс лица -тель (ср.: учитель ) становится обозначением предмета, а значение лица передается суффиксом -щик .
Возможная асимметричность языкового знака в наше время приводит к расширению значений многих слов, их обобщенности; это, например, обозначения различных должностей, званий, профессий, которые одинаково подходят к мужчине и женщине (адвокат, летчик, врач, профессор, ассистент, директор, лектор и др.). Даже если и возможны коррелирующие формы женского рода при подобных словах, то они либо имеют сниженную стилистическую окраску (лекторша, врачиха, адвокатша ), либо приобретают иное значение (профессорша - жена профессора). Нейтральные коррелирующие пары более редки: учитель - учительница, председатель - председательница ).
Антиномия двух функций языка сводится к противопоставлению чисто информационной функции и экспрессивной. Обе действуют в разных направлениях: информационная функция приводит к однотипности, стандартности языковых единиц, экспрессивная - поощряет новизну, оригинальность выражения. Речевой стандарт закрепляется в официальных сферах общения - в деловой переписке, юридической литературе, государственных актах. Экспрессия, новизна выражения более свойственна речи ораторской, публицистической, художественной. Своеобразный компромисс (а чаще именно конфликт) обнаруживается в СМИ, особенно в газете, где экспрессия и стандарт, как считает В.Г. Костомаров, являются конструктивным признаком.
Можно назвать еще одну сферу проявления противоречий - это антиномия устной и письменной формы языка . В настоящее время в связи с возрастающей ролью спонтанного общения и ослаблением рамок официального публичного общения (в прошлом - подготовленного в письменной форме), в связи с ослаблением цензуры и самоцензуры изменилось само функционирование русского языка.
В прошлом достаточно обособленные формы реализации языка - устная и письменная - начинают в каких-то случаях сближаться, активизируя свое естественное взаимодействие. Устная речь воспринимает элементы книжности, письменная - широко использует принципы разговорности. Начинает разрушаться само соотношение книжности (основа - письменная речь) и разговорности (основа - устная речь). В звучащей речи появляются не только лексико-грамматические признаки книжной речи, но и чисто письменная символика, например: человек с большой буквы , доброта в кавычках , качество со знаком плюс (минус) и др.
Причем из устной речи эти «книжные заимствования» вновь переходят в письменную речь уже в разговорном варианте. Вот некоторые примеры: Кулуарные договоренности мы оставляем за скобками (МК, 1993, 23 марта); Только медицинских работников, обслуживающих 20 клиентов вытрезвителя, я насчитал 13 плюс психолог, плюс четыре консультанта (Правда, 1990, 25 февр.); Один из побочных эффектов этой так называемой фетальной терапии - общее омоложение организма, изменение в «минус» биологического возраста (Веч. Москва, 1994, 23 марта); Эти очаровательные белокурые девочки в таких же синих, как и его костюм, пиджачках и юбочках, с белоснежными блузочками, в этих прекрасных ярко-оранжевых толсто надутых жилетах тире поясах, стали вдруг недоступны ему, как Царство Небесное (Ф. Незнанский. Частное расследование).
Так границы форм речи становятся размытыми, и, как считает В.Г. Костомаров, появляется особый тип речи - книжно-устная речь.
Такая ситуация предопределяет усиление взаимопроникновения книжности и разговорности (устного и письменного), что приводит в движение соприкасаемые плоскости, рождая новое языковое качество на базе новых столкновений и противоречий. «Зависимость функционирования языковых средств от формы речи снижается, но возрастает их привязанность к теме, сфере, ситуации общения».
Все эти антиномии, о которых шла речь, являют собою внутренние стимулы развития языка. Но благодаря воздействию социальных факторов их действие в разные эпохи жизни языка может оказаться более или менее интенсивным и открытым. В современном языке многие из названных антиномий стали особенно активными. В частности, наиболее яркими явлениями, характерными для функционирования русского языка нашего времени, М.В. Панов считает усиление личностного начала, стилистический динамизм и стилистическую контрастность, диалогичность общения. Так, социо- и психолингвистические факторы оказывают влияние на особенности языка современной эпохи.
Аналогия в лингвистике
Аналогия как один из факторов, действующих в истории развития языка, была замечена очень давно, но только в новейшее время ученые лингвисты, занимающиеся тщательным анализом всех вообще действующих тут факторов, изучили влияние аналогии поближе. Все выступающие в истории языка силы делятся на два большие рода: первый род составляют физические, второй психические факторы, или, лучше сказать, тут действуют только два фактора: 1) физиологический, который обнаруживается в фонетических законах, которые новейшие лингвисты признают, вопреки старым, как не терпящие исключений, и 2) психологический, влиянием которого объясняются или по крайней мере должны объясняться все "неправильности" языка, именно аналогия. Закон аналогии можно выразить таким образом: если мы имеем два ряда фактов: А, Б и В, Г, где А связано с Б, а В с Г, в таком случае если А похоже на В, то и Б будет стремиться принять форму, похожую на Г; напр. если мы имеем ряды с неодинаковой согласной и и ряды с одинаковой согласной , то естественно, что существование формы подвержено опасности, и действительно, в русском языке она заменена формой . Таким образом, мы видим, что стройность и правильность голосовых фонетических законов нарушены вследствие влияния аналогии. Границы той области, в которой аналогия может действовать, до сих пор не определены; но зато более разъяснены факты, касающиеся вопроса, каких родов бывает аналогия. Так как явления ее состоят в переменах формы слова, а перемены эти обнаруживаются вследствие известных ассоциаций между представлениями, то деление может основываться на следующих трех пунктах: на роде психических побуждений, на признаках смешанных слов и на следствиях влияния аналогии. Первый род аналогических явлений в языке, которые берут начало в психических побуждениях, рассмотрел Мистели в своем сочинении "Lautgesetz und Analogie".
Тут мотивом признается, главным образом, стремление к дифференциации похожих друг на друга фактов. Поэтому известные латинские формы deabus, filiabus образовались по аналогии к duabus, но только вследствие побуждения дифференцировать их от первоначально тождественных с ними мужских форм dis, filiis. Второй род аналогических явлений основан на природе смешивающихся слов, а именно на их внешнем или внутреннем сходстве или на том и другом вместе. Возможность случаев первой аналогии, т. е. влияния друг на друга слов, не имеющих ничего общего, кроме сходной формы, отрицает Дельбрюк, но именно на ней основывается так называемая фальшивая аналогия, или народная этимология, по которой слово, непонятное народу, уподобляется им другому, более или менее сходному по звукам слову, значение которого знакомо народу. Так, напр., греческое слово κραβάτιον под влиянием русских слов - кров, кровля приняло форму кровать; слово артиллерия под влиянием множества слов, начинающихся с ант, напр. антихрист, антий, антиев, Антон и т. д., в языке русских солдат переменилось в антилерия и т. п. Другой случай, но очень редкий, бывает тогда, когда два слова, имеющие только сходное значение, входят в ассоциацию, которая влечет за собою действие аналогии. Гораздо чаще бывает, что две формы, употребляющиеся в одной функции, влияют друг на друга. Напр. слова "стол" и "место", имеющие много одинаковых окончаний - стола, места; столу, месту и т. д. - стремятся к уподоблению и других функций; поэтому простой народ по родительному падежу "столов" (и всех похожих на эту форм) образовал форму "местов". Такие явления называются формальными явлениями аналогии. Есть еще явления, которые немецкими учеными называются вещественными (stoffliche); они происходят тогда, когда две или несколько функций одного слова влияют одна на другую и совершают изменения: так, напр., под влиянием форм "рука, руку, рукою" форма "руце" переменилась на "руке"; эти два вида называются также уравнением (Ausgleichung). Третий принцип деления заключается в результате смещения форм, причем или первобытная форма вытесняется новой, что, напр., является в греческом спряжении, где ελύταμε употреблялась, вероятно, вместо более древнего ελυσμεν, или обе формы существуют одна возле другой, например латинский родит. падеж: senatus и senati. Иногда бывает случай так наз. контаминации, когда является средняя форма, напр. при лат. jecor вместо первобытного jecinis и аналогичного jecoris является среднее jecinoris. См. Дельбрюк, "Einleitung in das Sprachstudium" (2 изд., стр. 105 и след.)
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. - С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890-1907 .
Смотреть что такое "Аналогия в лингвистике" в других словарях:
АНАЛОГИЯ, в лингвистике уподобление, вызванное влиянием одних элементов языка, образующих более продуктивную и более распространенную модель, на связанные с ними др. элементы языка. Напр., русская форма родительного падежа единственного числа… … Энциклопедический словарь
Аналогия в лингвистике, сближение первоначально отличных друг от друга форм вследствие стремления к распространению продуктивной модели (словоизменения, словообразования, фонетические изменения и т. п.): например, у существительных мужского рода… …
В лингвистике уподобление, вызванное влиянием одних элементов языка, образующих более продуктивную и более распространенную модель, на связанные с ними др. элементы языка. Напр., русская форма родительного падежа единственного числа сына вместо… … Большой Энциклопедический словарь
- (др. греч. ἀναλογία соответствие, сходство) подобие, равенство отношений; сходство предметов, явлений, процессов, величин..., в каких либо свойствах, а также познание путём УРОВНЕВОГО (по горизонтали и по вертикали сравнения… … Википедия
- (от греч. analogia соответствие) сходство между предметами, явлениями и т.д. Умозаключение по А. (или просто А.) индуктивное умозаключение, когда на основе сходства двух объектов по каким то одним параметрам делается вывод об их сходстве по др.… … Философская энциклопедия
- (греч.) означает первоначально соответствие, подобие илиравенство в известных отношениях одной вещи с другою. Познаниекакой либо другой вещи, основанное единственно на этих отношениях,называется аналогическим познанием. Заключение, делаемое… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
I Аналогия (греч. anālōgía соответствие, сходство) сходство предметов (явлений, процессов и т. д.) в каких либо свойствах. При умозаключении по А. знание, полученное из рассмотрения какого либо объекта («модели»), переносится на другой,… … Большая советская энциклопедия
- (греч.) означает первоначально соответствие, подобие или равенство в известных отношениях одной вещи с другою. Познание какой либо другой вещи, основанное единственно на этих отношениях, называется аналогическим познанием. Заключение, делаемое,… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
I ж. Уподобление одной единицы языка другой или перенос отношений, существующих в одной серии языковых единиц, на другую серию (в лингвистике). II ж. Умозаключение, в котором на основании сходства предметов, явлений, понятий в каком либо… … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
Законы развития языка
Язык постоянно меняется для адекватного и современного общения. Интенсивность этого развития может быть различна: язык резко меняется в период ломки экономической, политической и социальной сферы, в процессе состыковки с другими языками итд.
Своеобразным стимулятором (или, наоборот, «тушителем») этих изменений является фактор внешнего характера - процессы в жизни общества. Язык и общество, как пользователь языка, неразрывно связаны, но при этом они имеют свои собственные, отдельные законы жизнеобеспечения.
Таким образом, жизнь языка, его история связаны с историей общества, но не подчинены ей полностью из-за своей собственной системной организованности. Так в языковом движении сталкиваются процессы саморазвития с процессами, стимулированными извне.
Внутренние законы развития языка- проявляются внутри языковой системы, их действия опираются на их собственный языковой материал, они действуют как бы независимо от влияния общества.
Общими внутренними законами стали называть законы и принципы, которые относятся ко всем известным языкам и всем ярусам языковой структуры. Общими внутренними законами были признаны такие особенности языков, как наличие последовательных исторических форм языка, несоответствие внешней и внутренней языковых форм и в связи с этим различие закономерностей и темпов изменения отдельных ярусов структуры языка. В последние годы проблема общих законов языка была вытеснена проблемой универсалий.
Частными внутренними законами стали называть такие формулы и принципы, которые применимы лишь к определенным языкам или группам языков и отдельным ярусам языковой структуры. Так, фонетическим законом в славянских языках является первая и вторая палатализация заднеязычных.
Внешние законы развития языка- такие законы, которые обнаруживают связи языка с различными сторонами человеческой деятельности и истории общества.
Общие внешние законы устанавливают взаимосвязь, характерную для всех языков. Общим внешним законом является взаимосвязь общей истории языка с историей общества, связь форм существования языка с историческими общностями людей. Конечно, конкретные формы связи различны, эта общая закономерность своеобразно проявляется в отдельные периоды жизни языка и у разных народов в конкретно – исторических условиях.
Частным внешним законом развития языка, по мнению двух культурных центров (Москвы и Петербурга), является различная степень связи с внеязыковыми закономерностями разных структурных единиц языка. Так, лексика языка связана с общественно – политическими и культурными изменениями в обществе, с познавательной деятельностью людей, звуки языка – с физиолого – психологическими закономерностями, синтаксис обнаруживает связь с логическими формами мысли и логическими операциями.
Почему решающим в языковом развитии (решающим, но не единственным) фактором оказывается действие внутренних законов, кроется в том, что язык является системным образованием. Язык - это не просто набор, сумма языковых знаков (морфем, слов, словосочетаний и т.п.), но и отношения между ними, поэтому сбой в одном звене знаков может привести в движение не только рядом стоящие звенья, но и всю цепь в целом (или ее определенную часть).
Закон системности (внутренний закон развития языка) обнаруживается на разных языковых уровнях (морфологическом, лексическом, синтаксическом) и проявляется как внутри каждого уровня, так и во взаимодействии их друг с другом. Например, сокращение количества падежей в русском языке (шесть из девяти) привело к росту аналитических черт в синтаксическом строе языка - функция падежной формы стала определяться позицией слова в предложении, соотношением с другими формами. Изменение семантики слова может отразиться на его синтаксических связях и даже на его форме. И, наоборот, новая синтаксическая сочетаемость может привести к изменению значения слова (его расширению или сужению).
Закон языковой традиции (внутр), Понятность закона объясняется объективным стремлением языка к стабильности, «охранности» уже достигнутого, приобретенного, но потенции языка столь же объективно действуют в направлении расшатывания этой стабильности, и прорыв в слабом звене системы оказывается вполне естественным. Но тут вступают в действие силы, не имеющие прямого отношения к собственно языку, но могущие наложить своеобразное табу на инновации. Такие запретительные меры исходят от специалистов-лингвистов и специальных учреждений, имеющих соответствующий правовой статус. Происходит как бы искусственное задерживание очевидного процесса, сохранение традиции вопреки объективному положению вещей.
Действие закона языковой аналогии проявляется во внутреннем преодолении языковых аномалий, которое осуществляется в результате уподобления одной формы языкового выражения другой. В общем плане это мощный фактор языковой эволюции, поскольку результатом оказывается некоторая унификация форм, но, с другой стороны, это может лишить язык специфических нюансов семантического и грамматического плана. В таких случаях сдерживающее начало традиции может сыграть положительную роль.
Сущность уподобления форм (аналогия) заключается в выравнивании форм, которое наблюдается в произношении, в акцентном оформлении слов (в ударении), отчасти в грамматике (например, в глагольном управлении). Особенно подвержен действию закона аналогии разговорный язык, тогда как литературный более опирается на традицию, что вполне объяснимо, так как последний более консервативен по своей сути.
Особенно активным в современном русском языке оказывается действие
закона речевой экономии (или экономии речевых усилий). Стремление к экономичности языкового выражения обнаруживается на разных уровнях языковой системы - в лексике, словообразовании, морфологии, синтаксисе.
Развитие языка, как и развитие в любой другой сфере жизни и деятельности, не может не стимулироваться противоречивостью протекающих процессов. Противоречия (или антиномии ) свойственны самому языку как феномену, без них немыслимы какие-либо изменения. Именно в борьбе противоположностей проявляется саморазвитие языка.
Обычно выделяют пять-шесть основных антиномий
Антиномия говорящего и слушающего создается в результате различия в интересах вступающих в контакт собеседников (или читателя и автора): говорящий заинтересован в том, чтобы упростить и сократить высказывание, а слушающий - упростить и облегчить восприятие и понимание высказывания.
Столкновение интересов создает конфликтную ситуацию, которая должна быть снята путем поиска удовлетворяющих обе стороны форм выражения.
В разные эпохи жизни общества этот конфликт разрешается по-разному. Например, в обществе, где ведущую роль играют публичные формы общения (диспуты, митинги, ораторские призывные, убеждающие речи), в большей степени ощутима установка на слушающего.
В другие эпохи может ощущаться явное господство письменной речи и ее влияние на процесс общения. Установка на письменный текст (преобладание интересов пишущего, говорящего), текст предписания преобладала в советском обществе, и именно ей была подчинена деятельность средств массовой информации. Таким образом, несмотря на внутриязыковую сущность данной антиномии, она насквозь пронизана социальным содержанием.
Так конфликт между говорящим и слушающим разрешается то в пользу говорящего, то в пользу слушающего. Это может проявиться не только на уровне общих установок, как было отмечено выше, но и на уровне самих языковых форм - в предпочтении одних и отрицании или ограничении других.
Антиномия кода и текста - это противоречие между набором языковых единиц (код - сумма фонем, морфем, слов, синтаксических единиц) и их употреблением в связной речи (текст). Здесь существует такая связь: если увеличить код (увеличить количество языковых знаков), то текст, который строится из этих знаков, сократится; и наоборот, если сократить код, то текст непременно увеличится, так как недостающие кодовые знаки придется передавать описательно, пользуясь оставшимися знаками.
Антиномия узуса и возможностей языка (по-другому - системы и нормы) заключается в том, что возможности языка (системы) значительно шире, чем принятое в литературном языке употребление языковых знаков; традиционная норма действует в сторону ограничения, запрета, тогда как система способна удовлетворить большие запросы общения. Например, норма фиксирует недостаточность некоторых грамматических форм (отсутствие формы 1-го лица единственного числа у глагола победить, отсутствие противопоставления по видам у ряда глаголов, которые квалифицируются как двувидовые, и т.д.). Употребление компенсирует такие отсутствия, пользуясь возможностями самого языка, часто привлекая для этого аналогии.
Антиномия, вызванная асимметричностью языкового знака , проявляется в том, что означаемое и означающее всегда находятся в состоянии конфликта: означаемое (значение) стремится к приобретению новых, более точных средств выражения (новых знаков для обозначения), а означающее (знак) - расширить круг своих значений, приобрести новые значения.
Можно назвать еще одну сферу проявления противоречий - это антиномия устной и письменной формы языка . В настоящее время в связи с возрастающей ролью спонтанного общения и ослаблением рамок официального публичного общения (в прошлом - подготовленного в письменной форме), в связи с ослаблением цензуры и самоцензуры изменилось само функционирование русского языка. В прошлом достаточно обособленные формы реализации языка - устная и письменная - начинают в каких-то случаях сближаться, активизируя свое естественное взаимодействие. Устная речь воспринимает элементы книжности, письменная - широко использует принципы разговорности. Начинает разрушаться само соотношение книжности (основа - письменная речь) и разговорности (основа - устная речь). В звучащей речи появляются не только лексико-грамматические признаки книжной речи, но и чисто письменная символика, например: человек с большой буквы, доброта в кавычках, качество со знаком плюс (минус) и др. Причем из устной речи эти «книжные заимствования» вновь переходят в письменную речь уже в разговорном варианте.
ВНУТРЕННИЕ ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА
Т. И. ГОРБУНОВА
С.В. ХВОРОСТОВ
В нашей статье мы продолжаем рассматривать понятие «лингвистический закон». Под этим термином подразумеваются некоторые закономерности, которые обусловливают протекание определенных языковых процессов и их результат. Понимание этих законов помогает увидеть направление развития конкретного языка, языков или языка как явления.
С нашей точки зрения, новая информация будет полезна для наших слушателей и станет основой нового уровня понимания языковых явлений. Полагаем, что в работе нам поможет опыт, наработанный в языкознании и потенциал Рунного Языка.
Так как статья носит «общенаучный», можно сказать, «просветительский характер», то для пояснения излагаемых тезисов мы, во-первых, будем, в основном, обращаться к материалу естественных языков; во-вторых, будем иллюстрировать приведенные положения примерами, доступными не только для языковедов.
Известно, что в живом языке постоянно происходят какие-то изменения. Иногда толчком к такому изменению служат факторы, лежащие за пределами самого языка: условия жизни говорящего на данном языке народа, особенности социальных отношений, развитие экономики, культуры. Лингвисты называют их внеязыковыми, внешними или экстралингвистическими . Закономерности их воздействия на лингвистическую систему оформляются в виде определенных «лингвистических законов» или «внешних законов развития языка». В какой-то мере эта тема была рассмотрена в предыдущей статье , которую мы посвятили внешним лингвистическим законам. Материал статьи мы иллюстрировали примерами из русского языка с приведением фактов из Нового Рунного Языка, которые подтверждают наличие схожих процессов.
Однако в языке могут происходить и другие изменения, которые вызываются взаимодействием между элементами самой языковой системы, внутриязыковыми процессами, совершенно не зависящими от воли и сознания носителей. При этом действуют внутренние закономерности, которые проявляются как внутренние законы развития языка . В данной статье мы постараемся рассмотреть суть этих законов и их связи с факторами общего характера . К ним относится, прежде всего, системность языка .
Системный характер языка обусловливает существование определённых взаимоотношений между его элементами. Эти взаимоотношения носят внутренний характер и именно от них зависят очень многие преобразования в языке.
К указанным общим факторам языкового развития можно также отнести «запрограммированные» внутри любого языка две противоположно направленные тенденции – кинематическую и статическую . Кинематическая тенденция объединяет силы, которые стимулируют языковые преобразования . Статическая тенденция, в свою очередь, сводится к стремлению сохранить устойчивость языковой системы . Без этого язык не мог бы выполнять свою основную функцию – обеспечение коммуникации в самом широком смысле слова. Такая коммуникация невозможна без сохранения определённой стабильности языковой системы, хотя многие факторы неизбежно вызывают изменения элементов языка.
Таким образом, под воздействием двух противоположно направленных тенденций язык находится как бы в состоянии подвижного равновесия . Считается, что такое «подвижное равновесие» между этими двумя противоположными тенденциями и является диалектической основой развития языка .
На каком-то этапе под воздействием определённых процессов кинематическая тенденция приобретает большую силу, энергию, которая помогает преодолеть стремление языка к устойчивости. В результате в языке осуществляется переход в новое качество. При этом лингвистическая система вновь обретает устойчивость, но проявляет новые характеристики.
Как мы уже отмечали, наряду с внутренними процессами, свойственными языку вообще, наблюдаются тенденции, характерные для одного языка или группы родственных языков в определённый период их развития. Например, в индоевропейских языках замечена тенденция к утрате падежных флексий существительных, то есть независимо от того, какую роль в предложении играет данное существительное, форма слова не меняется. С этой особенностью знакомы все, кто изучал английский язык. Исследователи называют, и другие тенденции, характерные для его развития. Это, например, движение к использованию позиции слова в качестве грамматического средства и движение к неизменяемости не только существительных, но и других слов.
Заметим, что в Рунном Языке имена существования и имена проявления также не имеют «падежных окончаний». Например:
[? HAJ О A О L, была отмечена тенденция упразднения специальных «падежных окончаний». Например, в настоящее время личные местоимения имеют только две формы: одна для «именительного падежа» – для первой формы причинных отношений, и вторая – для всех остальных форм причинных отношений.
Z DО;UP. В современном русском языке они утрачены, а на их месте наблюдаются [а] и [у]. Кстати, в польском языке носовые гласные сохранились. Согласитесь, трудно назвать или просто предположить «внеязыковую» причину этих явлений. И мы можем сделать вывод, что это следствие внутриязыковых процессов .
Обычно такие изменения происходят в течение десятилетий и даже столетий, а следы этих процессов могут сохраняться в современных языках. Например, ранний праславянский язык унаследовал от общеиндоевропейской эпохи наличие закрытых слогов, то есть слогов, которые оканчиваются на согласный звук. На протяжении определенного периода эти слоги тем или другим способом перестраивались в открытые, то есть те, которые оканчиваются на гласный звук. Так проявлялась тенденции возрастающей звучности , существующая и в современном русском языке, в котором «слог начинается с наименее звучного элемента» .
При этом славянские языки сохраняли свойственные праславянскому языку редуцированные гласные. Понятие «редуцированные» происходит от немецкого слова reduzieren – уменьшать , сокращать . Это звук, «подвергшийся редукции, получившийся в результате редукции, менее протяженный, не так ясно выраженный, менее четко артикулируемый» . Или «…сверхкраткий, глухой, гласный неполного образования », который еще называют «иррациональным» . Наиболее известны праславянские гласные, которые обозначались буквами ъ – «ер» и ь – «ерь».. Например, жьньць – жнец, дьверь – дверь, съна – сна, кънига – книга .
Кстати, явление редукции хорошо известно и современному носителю русского языка, примером чего может служить сокращенная форма слов при быстром темпе речи, когда, например, «здравствуйте» произносится как [здрасьть ].
На определенном этапе развития славянских языков произошла трансформация. В так называемых «слабых позициях» гласные «ер» и «ерь» исчезли. В «сильных позициях», например, под ударением, эти гласные стали гласными полного образования (в русском языке «ер» трансформировалось в [о], «ерь» перешло в [е]). В истории русского языка этот период датирован XII – XIII веком, и явление названо «падением редуцированных ».
«Падение редуцированных вызвало такую перестройку фонетической системы русского языка, как ни одно другое историческое изменение, и приблизило её к современной …» .
Так, с утратой редуцированных завершилось действие закона открытого слога, и в древнерусском языке появилось большое количество слов с труднопроизносимыми сочетаниями согласных. Эти сочетания упрощались разными путями: сьд ѣ сь – здесь; объвлако – обвлако – облако; мазъло – масло; осльпа – оспа; дъщанъ (от дъска ) – дщан – тчан – чан; горньчаръ (от гърньць «горшок» ) – гончар и т.п.
Появился также новый вид позиционной мены, который сохраняется и в современном русском языке. Наблюдается оглушение звонких согласных в конце слова и в конце слога перед глухим: садъ [сат] – сад, лодъка [лотка] – лодка. В свою очередь, перед звонким согласным происходит озвончение глухих: молотьба [маладь ба], косьба [казь ба]. (Мы не используем здесь принятую в фонетике транскрипцию приводимых слов, чтобы «не путать» читателя специальными знаками и появлением обозначения редуцированных в современном русском языке).
Интересно, что, как результат оглушения звонкого «в», в языке появился исконно русский звук [ф]: ръвъ – [роф ] – ров, лавъка – [лаф ка] – лавка . До этого [ф] встречался только в заимствованных словах, таких как философ, Феодор и пр. .
Своеобразный след закона открытого слога сохранялся в русском языке вплоть до начала ХХ века. Это проявлялось, например, в использовании в конце слова букв «ер» и «ерь», которые обозначали твердость\мягкость конечного согласного. Мягкий знак используется в языке до сих пор. Твердый знак в конце слова был отменен в ходе орфографической реформы после революции 1917 года.
Изменение слоговой организации в славянских языках повлияло и на развитие ударения . Так, свободное словесное ударение «общеславянской поры» в современных чешском и словацком языках заменилось фиксированным ударением на начальном слоге слова. В польском языке ударение стало фиксироваться на предпоследнем слоге. В русском языке до сих пор свободная постановка ударения в слове.
Напомним, что мы исследуем внутренние процессы , которые не связаны или неявно связаны с коммуникативными, социальными функциями и развитием общества, а происходят в результате совершенствования лингвистической системы «как бы самой в себе».
В предыдущей статье мы упоминали о внутренних законах развития языка и давали их перечень. Однако это не единственно возможный вариант перечисления этих законов. Существуют и другие подходы. Например, профессор Н.С. Валгина выделяет следующие внутренние законы развития языка .
— Закон системности. Это глобальный закон, который является «одновременно и свойством, качеством языка» .
— Закон традиции, который сдерживает инновационные процессы.
— Закон аналогии, стимулятор подрыва традиционности.
— Закон экономии или закон наименьшего усилия.
— Законы противоречия (антиномии).
Итак, давайте рассмотрим перечисленные лингвистические законы, не входящие в уже знакомую вам классификацию.
Закон системности обнаруживается на разных языковых уровнях – морфологическом, лексическом, синтаксическом. Он может проявляться как внутри каждого уровня, так и во взаимодействии их друг с другом. Например, в современном русском языке 6 падежей. В разных исследованиях по древнерусскому языку называют разное количество существовавших в нем падежей (от семи до девяти, одиннадцати и более). По мнению исследователя , сокращение количества падежей в русском языке привело к росту аналитических черт в синтаксическом строе языка – функция падежной формы стала определяться не только соответствующим окончанием, но и позицией слова в предложении, соотношением с другими членами предложения.
Однако и в современном русском языке можно выделить случаи, которые являются отголосками «старой падежной системы». Например, существуют «следы» местного падежа, который в большинстве случаев совпадает с предложным падежом – на работе и о работе . Но есть слова, которые имеют два варианта форм в предложном падеже.
В лесу – о ле се
В снегу – о сне ге
В раю – о ра е
На двери – о две ри
Ударное окончание тоже относится к признакам местного падежа. Можно предполагать, что со временем это различие исчезнет и мы будем иметь дело с одной формой.
Качество системности может проявляться и в другом отношении. Например, изменение семантики слова часто отражается на его синтаксических связях и даже на его форме. И, наоборот, новая синтаксическая сочетаемость может привести к изменению значения слова (его расширению или сужению). Часто эти процессы бывают процессами взаимообусловленными.
В качестве примера можно привести расширение значения слова «экология», которое сначала трактовалось как «наука об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой » (см. БСЭ). С середины XX века воздействие человека на природу усилилось. В результате экология приобрела значение «научной основы рационального природопользования и охраны живых организмов». В конце XX в. формируется раздел экологии – экология человека (социальная экология); соответственно появляются аспекты экология города, экологическая этика и др. Мы наблюдаем расширение смыслового поля слова, что проявляется в его словообразовательных возможностях и качествах сочетаемости .
Закон языковой традиции человеку в целом понятен. Язык объективно стремится к стабильности, то есть система стремится сохранить наработанные варианты выражения значений. При этом действие закона обнаруживает сложное переплетение внешних и внутренних стимулов, задерживающих преобразования в языке. Однако потенции языка столь же объективно действуют в направлении расшатывания этой стабильности. В результате, на определенном этапе в системе проявляется «слабое звено», и вполне естественно в нем происходит «прорыв».
Однако на этот процесс могут оказывать влияние факторы, не имеющие прямого отношения к собственно языку. Причем «своеобразное табу» на изменение формы в отдельных случаях действует избирательно.
Например, большинству носителей русского языка известна пословица «сапожник без сапог », в которой отражена литературная норма. Однако раньше правильно звучало две пары валенков , сапогов. Языковая норма давно изменилась, и не говорят две пары валенков (валенок) , сапогов (сапог), ботов (бот), чулков (чулок) . Но почему-то сохраняется прежняя форма пара носков как литературная, а форма пара носок по традиции маркируется как просторечная.
Традиция часто проявляется в области ударения.
звать – звал – зва ли , но звала
спать – спал – спа ли , но спала
понять – по нял – по няли , но поняла
Закон противоречий . Противоречия, антиномии свойственны любому языку как феномену. При исследовании обычно выделяют несколько основных положений, для примера мы рассмотрим некоторые из них.
Выделяется антиномия говорящего и слушающего . Это противоречие возникает при вступлении в контакт собеседников (или читателя и автора). У двух сторон разные интересы и цели. Говорящий заинтересован в том, чтобы упростить и сократить высказывание, а слушающий – упростить и облегчить восприятие и понимание высказывания.
В определенном смысле, мы можем говорить о столкновении интересов, в результате чего возникает «конфликтная ситуация». Она должна быть снята путем поиска удовлетворяющих обе стороны форм выражения, то есть в результате некоторого скрытого компромисса.
В качестве примера можно привести ситуацию, которая возникает в аудитории, где лекцию читает новый преподаватель. Он должен выяснить уровень знаний студентов, находящихся в аудитории и, исходя из этого, определить объем материала и глубину раскрытия темы, темп чтения лекции и возможность диалога на доступном студентам уровне. Умение преподавателя общаться с аудиторией формируется в ходе накопления соответствующего опыта, а его тактика корректируется на каждом конкретном занятии.
Решение этого противоречия в обычном бытовом – «реальном» общении происходит через повышение уровня образованности и культуры носителей языка. В теоретическом и практическом плане этому способствует разработка специальных курсов и программ по риторике, ораторскому искусству, культуре речи. В результате знакомства с этими материалами у человека формируется литературная грамотность речи, ее логичность, выразительность и убедительность, что обеспечивает возможность гармоничного общения на основе понимания ситуации, выбора соответствующих тактик диалога и решения возникающих вопросов.
Существует антиномия узуса и возможностей языковой системы.
Понятие узус можно раскрыть следующим образом. «Узус (от лат. usus - пользование, употребление, обычай) в языкознании, общепринятое употребление языковой единицы (слова, фразеологизма и т.д.) …» (см. БСЭ).
Это противоречие заключается в том, что возможности языка (системы) значительно шире, чем принятое в литературном языке употребление языковых единиц. Так, в русском языке фиксируется недостаточность некоторых грамматических форм. Например, у глагола победить отсутствует форма 1-го лица единственного числа. Ты победишь. И в разговорной речи можно услышать использование шуточных вариантов – Я победю. Я побежу.
Можно привести другой пример. В русском языке существуют глаголы, не имеющие видовой пары. Это так называемые «двувидовые глаголы» – атаковать , организовать и др. Их конкретное значение в видовом отношении определяются по контексту. Но в самом языке существуют возможности создания пары, и по аналогии образуются слова.
атаковать – атаковывать
организовать – организовывать
То есть традиционная норма действует в сторону ограничения, запрета, тогда как система способна удовлетворить большие запросы общения. И если слово атаковывать еще не воспринимается как присущее литературной речи, то форма организовывать уже перешла в разряд нормы.
Антиномия двух форм языка – письменной и устной.
В настоящее время в обществе возрастает роль спонтанного общения и размываются границы официального публичного общения, которое превалировало ранее и фактически являлось озвучиванием образцов книжной речи. То есть обособленные ранее формы реализации языка начинают в каких-то случаях сближаться, активизируя свое естественное взаимодействие. Устная речь воспринимает элементы книжности, письменная – широко использует принципы разговорности.
Можно сказать, начинает разрушаться само соотношение книжности – разговорности. Так, в звучащей речи появляются лексико-грамматические признаки книжной речи – центр тяжести, цепная реакция, катиться по наклонной плоскости , а иногда и чисто письменная символика, например: человек с большой буквы , доброта в кавычках. И в книжном, даже научном стиле могут использоваться лексика из разговорного стиля – частицы разбегаются, показатели подпрыгнули, резкий взлет акций.
Отметим, что изложенные автором положения интересны сами по себе. Однако нашей задачей не является изучение предложенной системы в подробностях. Предполагается только общее знакомство с нею, потому что предъявленная классификация не очень подходит для решения нашей задачи – выявить похожие процессы в Рунном Языке.
Более соответствует этому уже знакомый нам вариант выделения внутренних лингвистических законов. Среди них:
«— закон ликвидации «участков напряжения» (процессы расподобления и уподобления согласных друг другу, упрощение групп согласных);
— закон позиционного варьирования звуков (поведение шумных согласных в позиции конца слова или на стыке его морфем);
— закон аналогии…;
— закон компенсационного развития (утрата одних форм или отношений в языке компенсируется развитием других);
— закон абстрагирования элементов языковой структуры (развитие абстрактных элементов языка происходит на базе конкретных);
— закон экономии языковых средств (в языке действует тенденция к реализации оптимальной достаточности: каждому языковому значению – адекватную форму выражения) ведет к уменьшению языковых элементов;
— закон дифференциации и отчленения элементов языковой структуры (развитие языка идет по пути выделения и специализации его элементов для выражения собственных языковых значений, что ведет к увеличению количества языковых значений)» .
На анализе перечисленных здесь законов мы остановимся более подробно. И при объяснении постараемся иллюстрировать основные внутренние закономерности конкретным лингвистическим материалом русского языка (что уже было частично сделано с использованием исторических примеров), а также привести некоторые факты, которые были отмечены в Рунальжи.
Закон ликвидации «участков напряжения »
В современном русском языке этот закон можно иллюстрировать фонетическими закономерностями. Так, в устной речи наглядно проявляется выпадение согласных звуков при произнесении слов типа солнце , лестница . Существуют также сочетания, которые стабильно заменяются в речи одним звуком. Как например, произнесение звука [ц] в глаголах с возвратной частицей -ся: открыватьс я – [открываца ], открываетс я – [открываица ].
Часто подобные явления фиксируются в разговорной сфере общения, особенно при произнесении «формул речевого этикета». Это уже было показано на примере слова «здравствуйте », которое может произноситься как [здрасьти, здрасьть ] или даже [драсти ].
Тенденцию ликвидации труднопроизносимых сочетаний звуков можно проиллюстрировать на примере процессов, происходящих в древнерусском языке. Мы уже говорили о том, что «падение редуцированных» спровоцировало дальнейшие изменения в фонетике и грамматике. Так, образовались трудные для произношения групп согласных, из-за чего происходит их упрощение – один из согласных выпадает. Некоторые преобразования закрепились и на письме. Например, так изменялось слово, существующее в древнерусском языке, – теплое помещение / истопленное помещение истъба – истьба – исба – изба .
Последовательно закрепляется на письме упрощение групп согласных в формах глаголов прошедшего времени мужского рода единственного числа. Так, формы древнерусского языка – неслъ, сохлъ, моклъ – перешло в современные – нес , сох , мок . Но след этого явления обнаруживается в современном русском языке в формах глаголов прошедшего времени женского и среднего рода единственного числа и формах множественного числа.
сох – сохла – сохло – сохли
В Рунном Языке тоже можно увидеть примеры подобного рода – ликвидации участков напряжения. С нашей точки зрения, в качестве примера можно использовать факт «ликвидации длиннот» в написании некоторых слов. Очень интересно, что этот процесс не был стихийным, – он был сознательно «просчитан» автором и внесён в грамматику как правило. Например, существуют грамматические правила, регламентирующие особенности образования видовых пар глаголов. Известен факт варьирования формы приставки – BF- (ха-) при образовании глаголов совершенного вида.
Мы знаем, что при образовании новой формы от глаголов, начинающихся с гласного звука используется краткий вариант приставки – B- (х-).
LОAUC – BFLОAUC
делать – сделать
дэльфейс – хадэльфейс
N>
тюбэйс – хатюбэйс
ОNBUC – BОNBUC
открывать – открыть
эльтхэйс – хэльтхэйс
U?» , «коды – ко [т ]» и т.п. Исключений нет.
В русском языке происходит также уподобление согласных друг другу по звонкости\глухости в позиции начала слова: вторник – [фторник ], сдавать – [здавать ], на стыке морфем – подтвердить – [па[т]вердить ] или слитном произнесения предлога и слова – в кровь – [ф крофь] и т.д. .
Можно ли говорить о подобных особенностях в Рунном Языке? Речь не может идти о системном оглушении или озвончении согласных в рунных словах. Но можно привести некоторые примеры, которые дают материал для наблюдений.
Так, в большинстве случаев, когда в русском языке происходит оглушение звонких согласных или озвончение глухих в определенных позициях, в Рунальжи, по нашим наблюдениям, включается «образцовая артикуляция» – максимально четкое произнесение звуков при произнесении отдельного слова или синтаксических единиц. Особенно это касается слов, которые имеют концептуальное значение или являются «концептами» – базовыми категориями бытия, если пользоваться терминами лингвокультурологии.
Вероятно, в этом тоже проявляются особенности Нового Языка. Те, кто изучает Рунальжи, уже знают на своем опыте, что даже при образцовом произнесении слов могут возникать трудности восприятия лексический единицы собеседником. Уже в начале обучения языку формируется понимание особенности восприятия рунной речи собеседником, внутреннего перевода лексических и синтаксических единиц, что, с нашей точки зрения, в большей мере связано не с фонетической оболочкой слова, а с вопросами осознания его сути.
Так, в русском языке конечная согласная -ж регулярно оглушается в [ш], -д в [т], однако в Новом Языке эти звуки обычно произносится четко, особенно в «исконно рунных» словах.
LО; – дэльж – осуществление.
N’’L – тэрэд – иной творец
Но иногда в конце слова все-таки отмечается оглушение звонких согласных. Процесс особенно заметен при достаточно высокой скорости говорения, что происходит чаще всего в учебно-бытовой сфере общения и обычно при произнесении слов, не несущих дополнительных внутренних значений.
Г-к
AU;UBR – фэйжэйг (к) – рисунок
Б-п
E< – чуб(п) – чуб
Д-т
LОBJTL – дэльхорд(т) – дурак
NFL – тад(т) – грязь
Можно предположить, что это влияние артикуляционных навыков русскоязычного человека, но, заметим, они проявляются достаточно регулярно.
Закон аналогии
С нашей точки зрения, в истории Рунальжи существуют некоторые факты, которые объясняться действием закона аналогии. Под аналогией понимается «уподобление, обусловливаемое влиянием, которое оказывают друг на друга так или иначе связанные между собой элементы языка, стремление к распространению продуктивной модели…» . Причём, эти процессы могут иметь различный характер.
Например, действием закона аналогии может быть вызван переход глаголов из одного класса в другой. Так, в русском глаголы типа читать, бросать образуют формы – читаю, бросаю. По аналогии с этими словами появились формы полоскаю (вместо полощу ), махаю (вместо машу ), мяукаю (вместо мяучу ) и др.
Часто эту закономерность можно иллюстрировать примерами из разговорной речи, диалектов. Например, две формы, употребляющиеся в одной функции, влияют друг на друга. Так, слова «стол» и «место» имеют много одинаковых окончаний – нет стола, места ; подошел к столу , месту и т.д. Они стремятся к уподоблению и других функций; поэтому «простой народ» по родительному падежу множественного числа «столов» образовал форму «местов» .
Влиянием падежных форм притяжательных местоимений является образование просторечных вариантов местоимений ее , их . Как известно, в русском языке в третьем лице единственного и множественного числа для обозначения принадлежности используются формы родительного падежа личных местоимений – его , ее , их . Они не изменяются по родам, числам и падежам.
Их дом
Их семья
Их село
Их села
Мы подошли к их дому.
Но часто можно услышать
Мы подошли к ихнему дому.
Можно предположить, что эта форма образована по аналогии с существующими нормативными словосочетаниями.
Мы подошли к моему (твоему, нашему, вашему ) дому.
Вероятно, вам приходилось слышать и такие варианты формы множественного числа от слова «пальто – по льта» , под влиянием, вероятно, «кольцо – ко льца» .
Ну и часто можно услышать нелитературное «нет носок» вместо «нет носков», предположительно, под влиянием формы «нет сапог, чулок» . Как мы уже упоминали выше, именно форма «носков, пара чулков, пара сапогов» в свое время была нормой. (Заметим, мы не стараемся дать все факты, которые можно привести, но только самые известные и способные стать хорошей иллюстрацией).
Значит, в языке постоянно происходит постепенное выравнивание, когда более редкие формы уподобляются более частотным. Думаем, что в Новом Языке тоже идут подобные процессы.
Можно привести такой факт. Раньше в Рунном Языке было три слова, соответствующих русскому слову «какой», сначала – SU – возэй , SX – возай , затем было введено слово SH – возе как вопрос к именам проявления РОО.
Сейчас вариант SX (возай ), использемый в этой позиции, стал «архаизмом», осталось два слова SU (возэй ) и SH (возе ). А если учитывать, что имена проявления РОО уходят из языка, то в перспективе останется одно слово.
Это изменение можно трактовать не только с точки зрения действия закона аналогии, но и в рамках закона дифференциации и специализации элементов языка. Вопрос «который» – SX (возай ) сейчас задается только к порядковым числительным. Можно этот процесс объяснить и тенденцией экономии языковых средств .
Закон экономии
Этот закон предполагает: что в языке действует тенденция к реализации оптимальной достаточности , то есть каждому языковому значению должна соответствовать адекватная форма выражения. Именно так работают словообразовательные механизмы языка, основанные на свертывании описательных конструкций в одну мотивированную языковую единицу. Например, из сочетания «черная ягода » образовалось слово «черника »; словосочетание «высшее учебное заведение » стало аббревиатурой, а сейчас функционирует как слово «вуз », образуя производные слова – «вузовские программы».
Как уже было отмечено, в Рунном Языке отмечается тенденция образования новых слов, заменяющих словосочетания. Так словосочетание «пространственно-временной континуум» переводилось как AF;ETОA-X;ОAJ NJNX;[ , а затем оно сменилось одним коротким словом – AXN;[ .
Как случай реализации закона экономии можно рассматривать оптимизацию количества лексических единиц для выражения определенных значений. В Рунном Языке существует глагол «быть». Он имеет в форме прошедшего времени два вида – A-CUG , который используется с именами существования не РОО, и – C’G , слово применяется с именами существования РОО.
F>ОJ A-CUG NH[ ОDT .
Человек был в раю.
;XRF A-CUG BОHОAF.
Женщина была красивой.
R’NIF A-C’G NH[ DFKО.
Кошка была в саду.
И были случаи, когда в предложениях использовались формы A-CUGH, A-C’GH .
A-CUGH EECОAJY.
Было светло.
A-C’GH BFG’O.
Было плохо.
Это в основном безличные предложения, и форма слова «быть» в большинстве случаев определялась семантикой сказуемого, предиката, а возможно, и формой русского глагола.
По новому правилу во всех подобных случаях используется только одна форма – A-CUGH .
A-CUGH B О H О AJY ,
Было красиво.
A-CUGH C’<’IG’O.
Было ужасно.
То есть, можно сказать, что таким образом осуществляется принцип оптимальной достаточности средств выражения определенных значений.
Кроме того преодолевается эффект омонимии, наложения значений двух слов, имеющих схожую фонетическую оболочку. Так в Рунном Языке есть слово «несбыточный» – A-C’G’ , которое в некоторых случаях могло становиться омофоном данного глагола .
Закон компенсационного развития
В чем проявляется этот закон? При утрате одних форм в языке большее развитие получают другие формы или конструкции, способные заменить утраченные. Они компенсируют пробелы в выражении определенных грамматических и семантических значений.
История Рунальжи, с нашей точки зрения, содержит достаточно примеров, которые могли бы стать иллюстрацией этого закона. Так, в начале становления в языке были предлоги в – NH (те), на – DF (ва), за – PF (за), с – BH (хе), которые имели значения, аналогичные русским предлогам. Они имели универсальный характер, то есть использовались для обозначения разных значений, как в русском языке. Например, предлог в выражал значение – направление движения – в школу и значение местонахождения – в школе . Но, как мы знаем, в русском языке для выражения конкретного значения используется не только предлог, но и флексия и конкретное значение выводится аналитически – учет предлога и окончания имени.
В Рунном Языке при склонении имен существования и проявления слова не изменяются, флексии отсутствуют, поэтому как компенсация возникла необходимость введения новых вариантов предлогов или новых предлогов, обозначающих конкретное значение.
В школу – NH BETF – те хура
В школе – NH[ BETF – тери хура
Это происходило почти со всеми рунными предлогами.
Можно привести и факт отсутствия в Рунном Языке причастий. Это было заложено в авторской грамматике . Но в Новом Языке есть необходимость выражения соответствующих значений, В результате вводятся синонимичные синтаксические конструкции – по правилу используются сложноподчиненные предложения с придаточным определительным. В соответствии с авторским видением, плачущий мальчик – мальчик, что плачет – DF<[??ОJ, NF GXI’CH .
Часть этих слов – причастий в русском языке – перешли в разряд имён проявления – открытый
– BОNBAJ
, закрытый
– BFN>