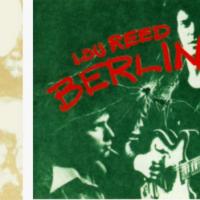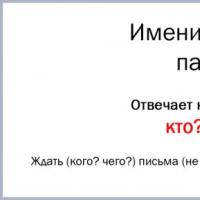Клисфен биография. Василиса явикс - интеллектуальная поисковая система. завтра уже здесь! Греко-персидские войны: причины, основные этапы и последствия
Первое упоминание о Клисфене (впрочем, это нельзя считать вполне доказанным) содержится во фрагменте афинской надписи со списком архонтов , из которого следует, что Клисфен был архонтом 525 г. до н. э. Это противоречит античной традиции, согласно которой Алкмеониды были изгнаны тираном Писистратом и с тех пор постоянно боролись с тиранией и заставляет учёных предполагать, что Клисфен, в числе других Алкмеонидов, был возвращен в Афины Писистратом или скорее его сыновьями Гиппием и Гиппархом и вновь изгнан после убийства Гиппарха Гармодием и Аристогитоном в 514 г. до н. э. С этого момента Алкмеониды, во главе которых стоял Клисфен, действительно развивают активную борьбу против тирании: укрепляют местечко Липсидрий, а после понесенного там военного поражения - подкупают Дельфийский оракул, который дает повеление спартанцам освободить Афины. Повеление было выполнено в 510 г. до н. э. при активной помощи афинских противников тирании; о конкретной роли Клисфена в событиях источники ничего не говорят, но она должна была быть немалой.
Борьба с Исагором
В освобожденных Афинах началась борьба за власть между Клисфеном и Исагором , избранным архонтом на 508/507 гг. При этом Исагор придерживался олигархического направления и опирался на аристократические «товарищества» (гетерии), тогда как Клисфен, в противовес ему, апеллировал к народной массе и предложил план широких демократических реформ. Исагор, со своей стороны, запросил помощи у Спарты. Спартанский царь Клеомен прислал послов с требованием к афинянам изгнать запятнанных «килоновым грехом»; Клисфен тайно бежал, но тем не менее Клеомен явился в Афины с отрядом и изгнал 700 семей, и даже кости мертвецов были выброшены из могил. После этого он попытался разогнать Совет и передать власть в руки Исагора и 300 его приверженцев-олигархов. Результатом было всеобщее восстание; Клеомен со спартанцами и олигархами был осажден на Акрополе и вынужден удалиться; Исагор удалился с ним, а его приверженцы (по разным сообщениям) то ли также покинули Афины, то ли были перебиты. После этого Клисфен вернулся в город и провёл серию реформ, утвердивших афинскую демократию.
Реформы Клисфена
Территориальное деление
Клисфен уничтожил традиционное деление Афин на четыре территориально-родовых округа - филы , бывшее опорой влияния родовой знати и её группировок. Основой деления стала «деревня» - дем ; демы объединялись в 30 триттий, а триттии - в 10 новых фил, нарезанных произвольно и не имевших сплошной территории. Первоначальное число демов Геродот определяет во 100; потом их число увеличивалось.
Демы названы были или по именам занимаемых местностей, или по их мифическим основателям, или, наконец, по знатным родам, обитавшим в том или другом деме (например дем Филаидов). Афинянин теперь становился членом гражданского коллектива не через принадлежность к роду, а через принадлежность к дему; в своем деме он по достижении совершеннолетия (18 лет) вносился в гражданские списки, в официальных документах он именовался по названию дема (например: Деметрий из Алопеки); как полагают, Клисфен стремился, чтобы это наименование вытеснило традиционные отчества. Впрочем, наименование дема быстро утратило связь с фактическим местожительством и напоминало лишь, к какому дему были приписаны его предки при Клисфене.
По населённости и пространству демы сильно разнились между собой, так как при образовании их Клисфен исходил от исконного деления Аттики на поселения. Дем пользовался самоуправлением в местных делах; в государственном управлении демы участвовали преимущественно через филы.
Дем, с его демархом и другими местными властями, с его общедемотскими собраниями, землями, культом, воспитывал гражданина для деятельности на более широкой общегосударственной арене. Законодателю не трудно было ввести в новые деления и новых граждан - поселившихся в Аттике иноземцев и вольноотпущенников.
Несколько демов составляли триттию; всего триттий было 30: 10 в городе и его округе, десять в Паралии (на побережье) и 10 в Месогее (внутренней области Аттики). Триттии были распределены по жребию между 10 филами, так чтобы в каждой филе была одна триттия городская, одна триттия Паралии и одна - Месогеи. Таким образом были разорваны старые родо-территориальные связи и предупреждено образование партий наподобие педиеев, паралиев и диакриев.
Клисфеновские деления можно проследить до середины IV в. нашей эры (причём тогда было уже 13 фил и до 200 демов). Патронами клисфеновских фил сделались, по указанию Пифии , 10 отечественных героев , которые и дали филам свои имена.
Реформа территориального деления повлекла за собой реформу городского Совета. По конституции Солона Совет формировался по 100 человек от каждой филы, и таким образом представлял собой Совет Четырёхсот. Новый Совет Пятисот представлял собой по 50 человек от филы, избиравшихся в демах; весь состав совета делился в течение года на 10 секций (пританий) по филам; должностные коллегии состояли обыкновенно из 10 магистратов, по одному от каждой филы; 6000 присяжных судей выбирались также по филам; пехота делилась на 10 полков, а конница на 10 эскадронов и т. д. В основу государственного управления положена была, таким образом, не территориальная, но политическая единица.
Другие реформы
Давних родовых делений Аттики Клисфен не уничтожал; роды, фратрии , ионийские филы продолжали существовать и после него. Он даже увеличил число фратрий, изменив и личный состав их: кроме древних родов, в их среду вошли члены религиозных сотовариществ, к родам не принадлежавшие; всех фраторов объединяли культы Зевса-фратрия и Афины-фратрии. Принадлежностью к фратрии обуславливались права и звание афинского гражданина до 18-летнего возраста. Однако эти родовые деления перестали играть политическую роль.
Клисфен также создал коллегию из 10 военачальников - стратегов (по 1 от каждой филы), в руки которых в последующие годы перешла от архонта-полемарха вся военная власть; в отличие от архонтов, в которые избирались только представители двух высших имущественных классов, стратегами могли стать представители всех классов, кроме последнего - фетов.
Для предупреждения новых попыток захвата тиранической власти Клисфен ввёл остракизм .
Результат
Реформами Клисфена завершилось объединение Аттики, начатое, по легенде, Тезеем , и образование органического целого из разрозненных и враждовавших между собой групп населения. По словам Аристотеля, Клисфен сделал Афины более демократическими, а Геродот ставит в причинную связь с клисфеновской организацией республики последовавшие вскоре за ней успехи афинян в войнах с беотийцами и халкидянами: под гнетом тиранов они были нерадивы, «потому что как бы трудились для господина, а потом, когда стали свободными, охотно брались за дело, преследуя собственные выгоды» (V, 78).
Напишите отзыв о статье "Клисфен"
Ссылки
Литература
Источники
Главные источники сведений о Клисфене - «Политика» и «Афинская полития» Аристотеля.
Исследования
- Оствальд М. Реформы Клисфена // Персия, Греция и Западное Средиземноморье ок. 525-479 гг. до н. э. Под ред. Дж. Бордмэна и др. Пер. с англ. А. В. Зайкова. М.: Ладомир, 2011. С. 368-416. (Серия: Кембриджская история древнего мира . Т. IV) - ISBN 978-5-86218-496-9
- Шеффер В. Афинское гражданство и народное собрание. М., 1891. I, стр. 310-432.
- Francotle L’organisation de la cité athénienne et la reforme de Clisthènes. Париж, 1893.
- Hug. Studien aus dem klass. Alterth. I, Фрейбург, 1881.
- Schoell. Ueber die Kleisth. Phratrien. 1890.
Отрывок, характеризующий Клисфен
– Да что, я уж забыла… – сказала она. – Ведь вы никто не пойдете?– Нет, я пойду; Пепагея Даниловна, пустите меня, я пойду, – сказала Соня.
– Ну что ж, коли не боишься.
– Луиза Ивановна, можно мне? – спросила Соня.
Играли ли в колечко, в веревочку или рублик, разговаривали ли, как теперь, Николай не отходил от Сони и совсем новыми глазами смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче только в первый раз, благодаря этим пробочным усам, вполне узнал ее. Соня действительно этот вечер была весела, оживлена и хороша, какой никогда еще не видал ее Николай.
«Так вот она какая, а я то дурак!» думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную, из под усов делающую ямочки на щеках, улыбку, которой он не видал прежде.
– Я ничего не боюсь, – сказала Соня. – Можно сейчас? – Она встала. Соне рассказали, где амбар, как ей молча стоять и слушать, и подали ей шубку. Она накинула ее себе на голову и взглянула на Николая.
«Что за прелесть эта девочка!» подумал он. «И об чем я думал до сих пор!»
Соня вышла в коридор, чтобы итти в амбар. Николай поспешно пошел на парадное крыльцо, говоря, что ему жарко. Действительно в доме было душно от столпившегося народа.
На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц, только было еще светлее. Свет был так силен и звезд на снеге было так много, что на небо не хотелось смотреть, и настоящих звезд было незаметно. На небе было черно и скучно, на земле было весело.
«Дурак я, дурак! Чего ждал до сих пор?» подумал Николай и, сбежав на крыльцо, он обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет Соня. На половине дороги стояли сложенные сажени дров, на них был снег, от них падала тень; через них и с боку их, переплетаясь, падали тени старых голых лип на снег и дорожку. Дорожка вела к амбару. Рубленная стена амбара и крыша, покрытая снегом, как высеченная из какого то драгоценного камня, блестели в месячном свете. В саду треснуло дерево, и опять всё совершенно затихло. Грудь, казалось, дышала не воздухом, а какой то вечно молодой силой и радостью.
С девичьего крыльца застучали ноги по ступенькам, скрыпнуло звонко на последней, на которую был нанесен снег, и голос старой девушки сказал:
– Прямо, прямо, вот по дорожке, барышня. Только не оглядываться.
– Я не боюсь, – отвечал голос Сони, и по дорожке, по направлению к Николаю, завизжали, засвистели в тоненьких башмачках ножки Сони.
Соня шла закутавшись в шубку. Она была уже в двух шагах, когда увидала его; она увидала его тоже не таким, каким она знала и какого всегда немножко боялась. Он был в женском платье со спутанными волосами и с счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня быстро подбежала к нему.
«Совсем другая, и всё та же», думал Николай, глядя на ее лицо, всё освещенное лунным светом. Он продел руки под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял, прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло жженой пробкой. Соня в самую середину губ поцеловала его и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки.
– Соня!… Nicolas!… – только сказали они. Они подбежали к амбару и вернулись назад каждый с своего крыльца.
Когда все поехали назад от Пелагеи Даниловны, Наташа, всегда всё видевшая и замечавшая, устроила так размещение, что Луиза Ивановна и она сели в сани с Диммлером, а Соня села с Николаем и девушками.
Николай, уже не перегоняясь, ровно ехал в обратный путь, и всё вглядываясь в этом странном, лунном свете в Соню, отыскивал при этом всё переменяющем свете, из под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он решил уже никогда не разлучаться. Он вглядывался, и когда узнавал всё ту же и другую и вспоминал, слышав этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя, он полной грудью вдыхал в себя морозный воздух и, глядя на уходящую землю и блестящее небо, он чувствовал себя опять в волшебном царстве.
– Соня, тебе хорошо? – изредка спрашивал он.
– Да, – отвечала Соня. – А тебе?
На середине дороги Николай дал подержать лошадей кучеру, на минутку подбежал к саням Наташи и стал на отвод.
– Наташа, – сказал он ей шопотом по французски, – знаешь, я решился насчет Сони.
– Ты ей сказал? – спросила Наташа, вся вдруг просияв от радости.
– Ах, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада?
– Я так рада, так рада! Я уж сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Nicolas. Как я рада! Я бываю гадкая, но мне совестно было быть одной счастливой без Сони, – продолжала Наташа. – Теперь я так рада, ну, беги к ней.
– Нет, постой, ах какая ты смешная! – сказал Николай, всё всматриваясь в нее, и в сестре тоже находя что то новое, необыкновенное и обворожительно нежное, чего он прежде не видал в ней. – Наташа, что то волшебное. А?
– Да, – отвечала она, – ты прекрасно сделал.
«Если б я прежде видел ее такою, какою она теперь, – думал Николай, – я бы давно спросил, что сделать и сделал бы всё, что бы она ни велела, и всё бы было хорошо».
– Так ты рада, и я хорошо сделал?
– Ах, так хорошо! Я недавно с мамашей поссорилась за это. Мама сказала, что она тебя ловит. Как это можно говорить? Я с мама чуть не побранилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее.
– Так хорошо? – сказал Николай, еще раз высматривая выражение лица сестры, чтобы узнать, правда ли это, и, скрыпя сапогами, он соскочил с отвода и побежал к своим саням. Всё тот же счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из под собольего капора, сидел там, и этот черкес был Соня, и эта Соня была наверное его будущая, счастливая и любящая жена.
Приехав домой и рассказав матери о том, как они провели время у Мелюковых, барышни ушли к себе. Раздевшись, но не стирая пробочных усов, они долго сидели, разговаривая о своем счастьи. Они говорили о том, как они будут жить замужем, как их мужья будут дружны и как они будут счастливы.
На Наташином столе стояли еще с вечера приготовленные Дуняшей зеркала. – Только когда всё это будет? Я боюсь, что никогда… Это было бы слишком хорошо! – сказала Наташа вставая и подходя к зеркалам.
– Садись, Наташа, может быть ты увидишь его, – сказала Соня. Наташа зажгла свечи и села. – Какого то с усами вижу, – сказала Наташа, видевшая свое лицо.
– Не надо смеяться, барышня, – сказала Дуняша.
Наташа нашла с помощью Сони и горничной положение зеркалу; лицо ее приняло серьезное выражение, и она замолкла. Долго она сидела, глядя на ряд уходящих свечей в зеркалах, предполагая (соображаясь с слышанными рассказами) то, что она увидит гроб, то, что увидит его, князя Андрея, в этом последнем, сливающемся, смутном квадрате. Но как ни готова она была принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она ничего не видала. Она часто стала мигать и отошла от зеркала.
– Отчего другие видят, а я ничего не вижу? – сказала она. – Ну садись ты, Соня; нынче непременно тебе надо, – сказала она. – Только за меня… Мне так страшно нынче!
Соня села за зеркало, устроила положение, и стала смотреть.
– Вот Софья Александровна непременно увидят, – шопотом сказала Дуняша; – а вы всё смеетесь.
Соня слышала эти слова, и слышала, как Наташа шопотом сказала:
– И я знаю, что она увидит; она и прошлого года видела.
Минуты три все молчали. «Непременно!» прошептала Наташа и не докончила… Вдруг Соня отсторонила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой.
Реформы Солона не смогли справиться с распрями внутри афинского общества. Афины переживают острый политический кризис, завершившийся установлением тирании. Наконец, через 90 лет после Солона, в 509 г. до н. з., демократы, объединившись вокруг своего вождя Клисфена, наносят решающий удар по остаткам родового строя, мешавшим функционированию государства как такового.
Реформа 509 г. окончательно ликвидировала старые племена. Взамен родоплеменного деления граждан было введено их территориальное разделение. Аттика делилась на десять территориальных племен (фил). Каждая фила состояла из трех частей - триттий. Одна из триттий должна была принадлежать к сельскохозяйственной равнине, где до того господствовала знать (здесь были ее имения), другая - к приморскому району, форпосту, демократически настроенной матросской массы, третью составлял один из кварталов столицы. В новых филах граждане были перемешаны таким образом, что преобладание сосредоточилось в руках горожан - ремесленников, купцов, матросов. Землевладельческая «равнина» была оттеснена на второй план. Помимо этого страна была поделена на наименьшие районы - демы. Их было около ста.
Введенная Клисфеном система раздробила аристократические роды и лишила их единства и сплоченности. Совет четырехсот был ликвидирован. Вместо него стали выбирать Совет пятисот - по 50 человек от каждой новой филы.
Общественное развитие привело к сосредоточению богатств в руках неродовитых граждан, составивших имущий класс Афин, но в органах родового строя господствовало государство рабовладельцев - знатных и незнатных. Для борьбы с противниками Клисфен ввел остракизм- изгнание из государства, применяемое в качестве политической меры, а не наказания. Изгнание назначалось обыкновенно на 10 лет и не влекло за собой ни лишения прав, ни конфискации имущества. Решение об остракизме принадлежало народному собранию.
Результатом реформ Клисфена стало снижение роли ареопага. А в 462 г. до н. э. афинская демократия, руководимая Эфиальтом, провела закон о лишении ареопага всех политических функций. К середине V в. до н. э. замещение должностей стало доступно всем гражданам, независимо от их имущественного положения. Позже по предложению стратега Перикла была введена выплата вознаграждения за государственную службу. Первыми стали получать жалованье члены Совета пятисот, присяжные заседатели, солдаты, матросы военного флота и все должностные лица, кроме стратегов.
Законодательное оформление гражданских прав в Афинах
Всей совокупностью прав и привилегий пользовались (по закону Перикла) только те лица мужского пола, у кого отец и мать были природными и полноправными гражданами Афин.
Гражданство приобреталось с 18-летнего возраста, затем в течение двух лет юноша проходил военную службу. С 20 лет ему разрешалось участвовать в народном собрании. До 60 лет граждане обязаны были участвовать в военных походах. Физический труд, за исключением земледельческого, признавался. недостойным гражданина. «Позорящие» профессии были уделом иностранцев- метэков, вольноотпущенников, рабов. Метэ- ки не имели права участвовать в народном собрании и занимать должности. Они служили в армии, платили налоги, при неуплате могли продаваться в рабство. Браки между метэками и гражданами запрещались.
Раб был только вещью, ее живым подобием. Его можно было продать и купить, отдать внаем. Он не мог иметь семью. Дети, прижитые им от связи с рабыней, были собственностью хозяина. Когда раб совершал преступление, заслуживавшее казни, суд и наказание становились делом властей.
Единственное, что закон запрещал хозяину,- убийство раба. Несмотря на формальный запрет, убийство раба хозяином не влекло за собой наказания для последнего. За этим исключением все другие виды наказаний были правом господина. Допрос раба производился только под пыткой. Это считалось справедливым и «истинно демократическим». Обычными способами наказания рабов были заковывание в кандалы, в железный ошейник, истязания, клеймение и пр. Пытали дыбой, заливанием уксуса в ноздри, прикладыванием к телу раскаленной черепицы, растягиванием членов. Никакого имущества раб иметь не мог. Все, что он зарабатывал, было собственностью господина. Отпущенный на свободу раб подпадал под двойной надзор: государства, относившегося к нему как к «иностранцу», и бывшего хозяина, по отношению к которому вольноотпущенный был обязан некоторыми повинностями.
Женщина не имела ни политических, ни гражданских прав, ей вменялось жить в особой половине дома. После свадьбы законным представителем жены становился муж. Чтобы развестись с жёной, ему достаточно было призвать свидетелей. Неверную жену разрешалось выгнать из дому, а приданое присвоить, в будущем ей запрещалось украшаться и входить в храмы, в противном случае разрешалось разорвать на ней одежду и избить. Дети находились в полной власти отца.
8. Клисфен Афинский
Афины снова были свободны. Но какое же сословие получит теперь правление в республике, знать или народ? Знать много содействовала низвержению тиранов, она и под гнетом тирании не потеряла своего единства, и теперь, под руководством Исогора, представляла замкнутое сословие, решившееся, по возможности, воспользоваться в своем интересе положением дел. Предполагалась уже полная реакция, возвращение к отношениям, предшествовавшим времени Солона, когда одна знать обладала почестью и выгодами правления; время, казалось, как нельзя более благоприятствовало этому, потому что партий парадиев и диакриев уже не существовало. Тогда Клисфен, глава Алкмеонидов, занял место предводителя всего незнатного населения; в противоположность знати он создал замкнутую народную партию и таким образом нежданно-негаданно стал могущественнейшим человеком в Афинах.
Клисфен видел, что как преобладание знати, так и введение тирании подвергнет государство новым потрясениям. Хотя мысль о тираническом господстве и не была чужда его фамилии искони, и он сам имел теперь в своих руках необходимую для этого силу, тем не менее, при всем властолюбии он был настолько благороден и великодушен, чтобы пожертвовать своими личными выгодами и славой своего дома для счастья и спокойствия отечества. Идея утверждения в отечестве мира необходимо было навсегда сломить перевес знати, пощаженной еще законодательством Солона. Клисфен поставил это высшей задачей своей жизни; он признал, Что только этот шаг завершить великое дело Солона.
Клисфен со смелой решительностью приступил к трудному делу и привел его в исполнение с беспощадной энергией. Хотя Солон и допустил всех граждан к участию в государстве и уравнял их в существенной стороне дела, тем не менее, он оставил неприкосновенным старое разделение знати на четыре племени: гелеонтов, гоплитов, аргадов и эгикоров, и разместил по этим старым племенам новосозданных граждан, вследствие чего дворянские роды сохранили свою прежнюю замкнутую связь, обеспечивавшую им преобладающее влияние в государственном правлении. Клисфен разорвал эту связь, уничтожил деление на четыре ионические племени и сохранил в неприкосновенности только их подразделение по фратриям и родам, с их наследственными святилищами и жертвоприношениями; вместо того он разделил для государственного управления весь народ, какого бы кто ни был происхождения, на десять новых племен, или фил, и притом местных (локальных, топических) фил, так что каждая фила состояла из 10 меньших округов (димов), расположенных в совершенно различных частях Аттики. Таким образом, эти отдельные филы совсем не имели местных средоточий, и если члены какой-либо филы желали устроить сходку, то она собиралась на Афинской площади, где были выставлены статуи 10 племенных героев*, по именам которых назывались филы. *Эрехтея. Эгея, Пандиона, Кевропса, Энея, Акамантл, Иппофоона, Аякса, Леонта, Антиоха.
По этому подразделению выбираемы были члены думы (вулевты) и присяжные народных судрв (идиасты), из каждой филы по 50 сенаторов и по 500 илиастов, так что с этих пор дума состояла из 500 человек, а число присяжных, идиастов, простиралось до 5000, к которому присоединилось еще 1000 запасных. От этого увеличения чисел получила ежегодный доступ к государственным делам большая, чем прежде, часть народа, а для возбуждения в последнем живейшего интереса к республике он был созываем в народное собрание десять раз в год, тогда как прежде это случалось только четыре раза.
Это нововведение случилось год спустя после изгнания Писистратидов, в 509 году. Знать увидела, что оно отнимало из ее рук всю власть и передавало ее целому народу; она напрягла все силы, чтобы погубить новое учреждение. Исогор настоял на своем избрании в первые архонты на следующий год; но, не будучи, несмотря на это, в состоянии преодолеть влияние Клисфена, он принужден был искать помощи за пределами страны. Он обратился к спартанскому царю Клеомену, своему приятелю. Спартанцы, будучи всегда ревностными приверженцами аристократической формы правления, с негодованием смотрели на введение демократии в Афинах; за помощь, оказанную ими против Писистратидов, они надеялись взять Афины на буксир своей политики, а теперь видели, что этот город совсем отворачивается от них и следует своему собственному пути. Они снова послали Клеомена с войском против Аттики. По совету Исагора, последний еще с дороги послал в Афины вестника с требованием; чтобы граждане удалили из своей среды лиц, подверженных проклятию; снова поднято было воспоминание о злодеянии Алкмеонидов, совершенном в Кидоново время. Клисфен не отважился ожидать прибытия спартанского войска и оставил страну.
По вступлении Клеомена в Афины Исагор немедленно приступил к своей насильственной реакции. Он указал Клеомену на 700 семей, бывших опасными по своему демократическому направлению, вследствие чего последний приказал своим воинам изгнать за пределы страны больше 3000 человек, мужчин, жен и детей. Затем была учреждена новая дума из 300 эвпатридов; но Исагор неожиданно встретил сильное сопротивление со стороны старой думы, которая не хотела уступить своего места и объявила о своем намерении поддерживать законы. Исагор, первый государственный сановник, для насильственного осуществления своего плана открыл доступ чужому царю и чужим войскам в цитадель родного города. Этот насильственный шаг, вместо устрашения народа, побудил только город и страну к открытому сопротивлению. Вооруженный народ полился сюда массами, окружил и начал штурмовать кремль, убежище его свободы и обитель величайших богов его страны. Уже на третий день Клеомен, прибывший с незначительным отрядом, потерял мужество; он заключил капитуляцию и постыдно оставил страну со своими обезоруженными спартанцами. Он взял с собой только Исагора, главнейшего виновника, и имел настолько низости, чтобы предать остальных аристократов, державшихся его стороны, карательной мести сограждан. Они были заключены в темницу и, как государственные преступники, осуждены на смерть. Призванный советом, Клисфен немедленно возвратился с другими изгнанниками в Афины и снова взял в свои руки управление государственными делами. Народ совершил великий подвиг, сила знати была сломлена, спартанцы заплатили позором за свои притязания; но еще грозили новые и сильнейшие опасности. Пылкий Клеомен напрягал все силы к отмщению своего позора, к восстановлению своей запятнанной чести; униженное спартанское государство должно было силой оружия восстановить свое потрясенное значение. Началась открытая война. Спарта выставила против Афин войска всего Пелопоннесского союза и сверх того, чтобы массой вполне подавить ненавистный город, призвала еще на помощь враждебные афинянам соседние города, аристократически управляемую эвбейскую Халкиду, с завистью смотревшую на возрастание Афин, и Фивы, которые, недавно разбитые афинянами, должны были терпеливо сносить отступления Платеи от Виотийского союза и присоединение ее к Афинам.
В то время как пелопонесское войско, предводимое обоими спартанскими царями, Клеоменом и Димаратом, вторгнулось в Аттику и расположилось лагерем при Элевсисе, фиванцы с виотянами прошли через Киферон и овладели Иноей, а халкидское войско переправилось через пролив и опустошило восточную часть Аттики. Несмотря на всю опасность, Клисфен и афиняне не потеряли мужества. Решившись на крайнее сопротивление, они со всей своей военной силой отправились против пелопоннесцев к Элевсису, где Клеомен безнаказанно свирепствовал в святилищах Димитры и Коры: он приказал вырубить священную рощу, опустошил благословенную пашню, принесшую некогда людям первую жатву ячменя, и священный луг, на котором при мистических торжествах устраивался хоровод. Войска противников уже выстроились в боевой порядок, как вдруг коринфяне обратили тыл и направились к лагерю, а их примеру последовали и другие. Спартанцы созвали пелопоннесцев на войну самовольно, без союзного определения, даже без объявления им цели похода. Лишь по вступлении в Аттику сделались известными замыслы спартанцев. Только удайся им покорение Афин, и их могущество, уже и теперь весьма заметное, сделалось бы опасным для самостоятельности пелопонесских государств. Поэтому коринфяне воспользовались осквернением Элевсинских святилищ, как благовидным предлогом, и отказались от содействия. Все войско распалось, и Клеомен, оставленный даже своим царственным товарищем, без боя повел своих спартанцев обратно на родину.
Неожиданно освободившись, не поднимая оружия, от самого опасного противника, афинский народ тотчас же бодро отправился с Элевсинской равнины к восточному берегу, с целью наказать вторгнувшихся халкидийцев. Но так как фиванцы последовали за афинянами в намерении соединиться с халкидийцами, то они обратились сначала против них и нанесли им совершенное поражение. 700 виотийских гоплитов были взяты в плен и в цепях шли за афинским войском, которое в тот же день переправилось через море для преследования халкидийцев, поспешивших отступлением, в их собственной земле. Халкидийцы были разбиты, а город их покорен. Он должен был принять демократическое устройство и отказаться от лучшей части своей области, со всеми владениями знати, в пользу афинян. С этих пор искони славная Халкида сделалась незначительным городом. Афиняне же на десятую часть выкупа за пленных виотийцев и халкидийцев воздвигли в честь своей богини медную четверню на акрополе; а в воспоминание победы по стенам последнего были развешены цепи пленников.
Спартанцы еще раз пытались положить предел возрастающему могуществу Афин. В негодовании на последние неудачи своей политики, они оставили правило, которому до сих пор следовали с честью, - правило, повелевавшее всюду в Греции низвергать тиранию, и даже призвали из Азии Иппию, чтобы снова водворить его в Афинах и сломить могущество их с помощью изгнанного прежде тирана; но в союзном собрании, которое они созвали в Спарту, с целью привлечь на свою сторону союз, коринфяне снова выразили несогласие, а к коринфянам пристали и прочие союзники. Спартанцы принуждены были, таким образом, оставить свой план, и Иппия, ничего не сделав, возвратился в Сигейон.
Своим решительным мужеством и храбростью афинский народ добился свободы в своих внутренних делах, а во внешних не только защитил оспариваемую у него независимость, но и вынудил от соседей немаловажные выгоды. Вся Эллада с удивлением смотрела на быстрые победы и чрезвычайное преуспеяние Афин. Все это было плодом единодушия и дружного одушевления, которым народ был обязан учреждением Клисфена. Во время внешних войн, выпавших на долю Афин, Клисфен не остановился на пути устройства и упрочения народного владычества, умножения и укрепления государственных сил. Он провел предложение, по которому земли, приобретение государством на Эвбее, были разделены на 4000 участков и распределены между аттическими гражданами из класса фитов. Через это государство приобрело 4000 зевгитов, следовательно, увеличило свои военные силы на 4000 гоплитов. Число граждан было увеличено распространением права гражданства на множество иноземцев и сожителей (метэков), которые до сих пор за известную плату жили в городе и занимались торговлей и ремеслами; они увеличили силу народа против знати. Полномочия высших сановников, архонтов, были ограничены с той целью, чтобы они не делались, как это случилось с Исагором, опасными для спокойствия и прав народа. Для устранения раздоров и козней партий при выборах высших сановников, где честолюбие богатых и сильных всегда находило широкое поприще, было постановлено решать дела между соискателями жребием.
Клисфену обязано своим происхождением еще одно исключительно принадлежащее Афинскому государству учреждение, имевшее целью предохранение народа от господства или опасного преобладания отдельной личности, именно - остракизм или черепковый суд. Он был высшим стражем аттической демократии. Ежегодно совет в определенное время обращался с запросом к народному собранию о том, не требует ли положение государства удаления какого-либо гражданина. Если народ отвечал утвердительно, то был назначаем день для нового народного собрания, на котором каждый гражданин тайно записывал на черепке имя того человека, которого он считала опасным для государства. Если на 6000 черепков было написано одно и то же имя, если, стало быть, треть аттических граждан, имевших право голоса, объявляла кого-либо опасным для государства, то этот человек в продолжение 10 дней должен был оставить отечество на 10 лет. При этом он не терпел, однако ж, ущерба в остальных своих правах и имуществе и не считался своими согражданами, вследствие такого изгнания, наказанным или обесчещенным. Вообще остракизм был редко употребляем и им никогда не злоупотребляли. Рассказывают, что он в первый раз применен был к самому Клисфену; но этому противоречит известие, что первым подвергшимся остракизму был родственник изгнанного тирана Иппии, по имени Гиппарх, сын Харма из дома Холарга. Последний достиг Звания первого архонта в 496 году, в то именно время, когда персы грозили возвращением Иппия; и это было достаточной причиной для удаления его из государства, как человека опасного для народной свободы Развитием демократических элементов в Солоновом законодательстве и уничтожением ограничений, зависевших от аристократического влияния, Клисфен впервые довел Солоново устройство до его полноты. С тех пор мощь афинского народа развивалась быстрыми шагами, так что Афины сделались наряду со Спартой могущественнейшим государством в Греции.
«Теперь только выросли Афины, - говорит Геродот о Клисфеновом времени, - и пример их показывает, какую цену имеют свобода и равенство прав. Ибо пока афиняне находились под властью тиранов, они не могли одолеть в войне ни одного из своих соседей; по освобождении же от тиранов, далеко превзошли всех». Подобно тому, как в описываемое время нападение Спарты на свободу и независимость Афин немало действовало быстрому и неожиданному возрастанию влияния их, так точно в последующие десятилетия опасности персидских войн быстро подняли их на высшую степень могущества и политического развития.
Из книги Повседневная жизнь древнегреческих женщин в классическую эпоху автора Брюле ПьерСократ Афинский Неравенство между полами: если спартанское многомужие, похоже, свидетельствует о дефиците женщин, то афинский декрет, принятый в период Пелопоннесских войн (431 - 404 гг. до н. э.), декрет, позволяющий «желающим иметь две супруги», выдает дефицит мужчин.
автора Штоль Генрих Вильгельм5. Клисфен Сикионский Древнее царское достоинство героического времени мало-помалу исчезло во всех греческих государствах, на родине и в колониях, за исключением Спарты, которой устройство, впрочем, едва ли можно назвать монархическим; место господства царей заняло
Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм6. Солон Афинский По отцу своему Экзекестиду Солон происходил из старинной царской фамилии Кодридов, а по матери находился в родстве с Писистратидами. В юности своей он приобрел богатое всестороннее образование, а частые путешествия, которые он предпринимал в качестве
Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм11. Мильтиад Афинский В 560 году, когда Писистрат в первый раз сделался тираном афинским, один знатный человек в Афинах сидел у своего дома, с сердцем, полным горести и злобы по поводу несчастья, постигшего отечество. То был Мильтиад, сын Кипсела, из богатого и знатного рода
Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм13. Фемистокл Афинский Фемистокл, сын Неокла, происходил из древнего, но не очень выдающегося аттического аристократического рода Ликомидов. Он не был афинянином чистой крови, потому что мать его была фракиянка или кариянка. Впрочем, по законам Солона, афиняне смешанного
Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм14. Аристид Афинский Аристид, с которым мы уже познакомились в жизнеописании Фемистокла, как с политическим его противником, но не личным его врагом, был сын Лисимаха из филы Антиохийской. Правда, он не принадлежал к знатным фамилиям Аттики, но по своей поземельной
Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм16. Кимон Афинский Кимон был сын славного Мильтиада и Игисипилы, дочери фракийского царя Олора. Он родился около 500 года до P. X.Так как его отец, за неуплатой им долга в государственную казну, в 50 талантов, умер в бесчестии (атимии), то Кимон, как наследник отцовского
Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм17. Перикл Афинский Перикл был величайший государственный человек Греции. Во время его правления афинская демократия получила свое окончательное развитие, а Афинское государство достигло величайшего могущества и блеска. Перикл был сын Ксантиппа, победителя при Микале,
Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм22. Алкивиад Афинский Алкивиад принадлежал как по отцу, так и по матери к самым знатным афинским фамилиям. Его отец Клиний вел родословную своей фамилии от Еврисака, сына Аякса Теламонида. Его мать Диномаха, дочь Мегакла, внучка знаменитого законодателя Клисфена, была из
Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм24. Фразивул Афинский Владычество тридцати тиранов, посаженных в Афинах Лисандром, продолжалось всего восемь месяцев, вероятно, с августа 404 до весны следующего года. На обязанности их лежало «избрать сенаторов, заместить публичные должности и пересмотреть отечественные
Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм25. Конон Афинский Муж, который снова возвел Афины, униженные Спартой и освобожденные Фразивулом, до самостоятельности и доставил им средства для свободного развития силы и могущества, был Конон. Уже в Пелопоннесской войне показал он себя опытным полководцем и
Из книги История Древней Греции автора Андреев Юрий ВикторовичАфинский календарь ГЕКАТОМБЕОН - июль - августГАМЕЛИОН - январь - февральМЕТАГИТНИОН - август - сентябрьАНТЕСТЕРИОН - февраль - мартБОЭДРОМИОН - сентябрь - октябрьЭЛАФЕБОЛИОН - март - апрельПИАНОПСИОН - октябрь - ноябрьМУНИХИОН - апрель - майМЕМАКТЕРИОН -
Из книги 100 великих замков автора Ионина НадеждаАфинский акрополь Слово «акрополь» в переводе с греческого означает «верхний город», а на Руси такие укрепленные верхние города называли кремлями. Некогда афинский Акрополь действительно был крепостью, и казалось, сама природа позаботилась о том, чтобы возвышающаяся
Из книги 100 знаменитых памятников архитектуры автора Пернатьев Юрий СергеевичАфинский Акрополь Двадцать пять веков назад, в одной из долин Аттики расцвел самый красивый город Древней Греции – Афины. Редко о какой столице сказано столько возвышенных слов и сложено столько вдохновенных строк, что еще раз доказывает: истинная красота нетленна, даже
Из книги Всемирная история в лицах автора Фортунатов Владимир Валентинович2.2.4. Клисфен и его законы В череде греческих реформаторов нельзя пройти мимо афинянина Клисфена, происходившего из знатного рода Алкмеонидов. Сын Мегакла и Агаристы, внук сикионского тирана Клисфена Старшего жил во второй половине VI в. до н. э., а в качестве
Из книги О, Солон! автора Остерман Лев АбрамовичГлава 2 РАЗВИТИЕ И ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЕМОКРАТИИ. КЛИСФЕН, МИЛЬТИАД Реформа КлисфенаУже упоминалось, что развитие Афинской демократии в VI веке было прервано тиранией Писистрата. Перерыв был длительным. Сам Писистрат правил в Афинах 33 года (560–527 гг.) и еще 17 лет продолжалось
КЛИСФЕН (расцвет деятельности – вторая половина 6 в. до н.э.), афинский государственный деятель. Клисфен родился ок. 570 до н.э., его дедом по матери был сикионский тиран Клисфен, а отцом – Мегакл, тогдашний глава Алкмеонидов, влиятельного аристократического семейства в Афинах. Клисфен разделил с семьей и ее сторонниками перепетии противостояния афинским тиранам. Около 556 до н.э. его род заключил брачный союз с тираном Писистратом; в 546 до н.э., когда рвавшийся к власти Писистрат высадился в Аттике, Алкмеониды выступили против него и впоследствии были изгнаны. В 525 до н.э. они заключили мир с сыном тирана Гиппием, и Клисфен сделался архонтом-эпонимом (глава ежегодно избиравшейся коллегии городских должностных лиц; см. также АРХОНТ). Незадолго до окончательного изгнания Писистратидов Клисфен и его родные были вынуждены вновь покинуть Афины (вероятно, после 514 до н.э.). Около 512 до н.э. Алкмеониды предприняли неудачную попытку вернуться в Афины, а затем пытались обеспечить себе поддержку спартанцев.
Тирания пала в 510 до н.э., однако Клисфен проиграл борьбу за власть в политизированных олигархических городских группировках (гетериях), и архонтом на срок 508–507 до н.э. стал Исагор. Последний, желая закрепить власть, призвал в Афины царя Спарты Клеомена с небольшим войском. Клисфен и еще 700 семей вновь были изгнаны, но еще до изгнания Клисфен успел провозгласить новую политику – демократические реформы и противостояние Спарте. Поэтому в его отсутствие возмущенный восстановлением тирании народ принял сторону Клисфена и изгнал Клеомена, с которым бежал и Исагор.
В 507 до н.э. Клисфен вернулся в Афины и принялся за осуществление демократических реформ в духе Солона. Новое государственное устройство было призвано сплотить народ. С этой целью была проведена административно-территориальная реформа. Аттика была поделена на три территориальных округа (Афины с прилегающей областью и Пиреем, побережье и внутренняя Аттика). С 4 до 10 было увеличено число фил (прежних племенных объединений, ставших отныне административными единицами). Каждая фила была образована демами (см . ДЕМ). Выборы в буле (городской совет, см . БУЛЕ) проходили по филам, каждая из которых делегировала 50 человек, так что число членов буле увеличилось с четырехсот до пятисот. Поскольку буле избирался ежегодно, причем на завершающем этапе отбор проводился по жребию, переизбираться же можно было лишь на один срок, это означало, что через членство в буле, обладавшего важными законодательными и административными функциями, проходила значительная часть населения Аттики. Таким образом, все население Аттики было сгруппировано без учета племенных и цеховых различий, хотя Клисфен сохранил старые родовые и религиозные союзы. Аристотель утверждает, что Клисфен ввел остракизм (изгнание по решению народного собрания) как средство устранения соперников, и в особенности приверженцев Гиппия, но, по-видимому, остракизм был введен позднее, в 488 до н.э. Клисфен создал единое государство с прогрессивной конституцией и самостоятельным политическим курсом, что спасло Грецию при Марафоне и Саламине. Даты конца его правления и смерти неизвестны.
Афины снова были свободны. Но какое же сословие получит теперь правление в республике, знать или народ? Знать много содействовала низвержению тиранов, она и под гнетом тирании не потеряла своего единства, и теперь, под руководством Исогора, представляла замкнутое сословие, решившееся, по возможности, воспользоваться в своем интересе положением дел. Предполагалась уже полная реакция, возвращение к отношениям, предшествовавшим времени Солона, когда одна знать обладала почестью и выгодами правления; время, казалось, как нельзя более благоприятствовало этому, потому что партий парадиев и диакриев уже не существовало. Тогда Клисфен, глава Алкмеонидов, занял место предводителя всего незнатного населения; в противоположность знати он создал замкнутую народную партию и таким образом нежданно-негаданно стал могущественнейшим человеком в Афинах.
Клисфен видел, что как преобладание знати, так и введение тирании подвергнет государство новым потрясениям. Хотя мысль о тираническом господстве и не была чужда его фамилии искони, и он сам имел теперь в своих руках необходимую для этого силу, тем не менее, при всем властолюбии он был настолько благороден и великодушен, чтобы пожертвовать своими личными выгодами и славой своего дома для счастья и спокойствия отечества. Идея утверждения в отечестве мира необходимо было навсегда сломить перевес знати, пощаженной еще законодательством Солона. Клисфен поставил это высшей задачей своей жизни; он признал, Что только этот шаг завершить великое дело Солона.
Клисфен со смелой решительностью приступил к трудному делу и привел его в исполнение с беспощадной энергией. Хотя Солон и допустил всех граждан к участию в государстве и уравнял их в существенной стороне дела, тем не менее, он оставил неприкосновенным старое разделение знати на четыре племени: гелеонтов, гоплитов, аргадов и эгикоров, и разместил по этим старым племенам новосозданных граждан, вследствие чего дворянские роды сохранили свою прежнюю замкнутую связь, обеспечивавшую им преобладающее влияние в государственном правлении. Клисфен разорвал эту связь, уничтожил деление на четыре ионические племени и сохранил в неприкосновенности только их подразделение по фратриям и родам, с их наследственными святилищами и жертвоприношениями; вместо того он разделил для государственного управления весь народ, какого бы кто ни был происхождения, на десять новых племен, или фил, и притом местных (локальных, топических) фил, так что каждая фила состояла из 10 меньших округов (димов), расположенных в совершенно различных частях Аттики. Таким образом, эти отдельные филы совсем не имели местных средоточий, и если члены какой-либо филы желали устроить сходку, то она собиралась на Афинской площади, где были выставлены статуи 10 племенных героев*, по именам которых назывались филы. *Эрехтея. Эгея, Пандиона, Кевропса, Энея, Акамантл, Иппофоона, Аякса, Леонта, Антиоха.
По этому подразделению выбираемы были члены думы (вулевты) и присяжные народных судрв (идиасты), из каждой филы по 50 сенаторов и по 500 илиастов, так что с этих пор дума состояла из 500 человек, а число присяжных, идиастов, простиралось до 5000, к которому присоединилось еще 1000 запасных. От этого увеличения чисел получила ежегодный доступ к государственным делам большая, чем прежде, часть народа, а для возбуждения в последнем живейшего интереса к республике он был созываем в народное собрание десять раз в год, тогда как прежде это случалось только четыре раза.
Это нововведение случилось год спустя после изгнания Писистратидов, в 509 году. Знать увидела, что оно отнимало из ее рук всю власть и передавало ее целому народу; она напрягла все силы, чтобы погубить новое учреждение. Исогор настоял на своем избрании в первые архонты на следующий год; но, не будучи, несмотря на это, в состоянии преодолеть влияние Клисфена, он принужден был искать помощи за пределами страны. Он обратился к спартанскому царю Клеомену, своему приятелю. Спартанцы, будучи всегда ревностными приверженцами аристократической формы правления, с негодованием смотрели на введение демократии в Афинах; за помощь, оказанную ими против Писистратидов, они надеялись взять Афины на буксир своей политики, а теперь видели, что этот город совсем отворачивается от них и следует своему собственному пути. Они снова послали Клеомена с войском против Аттики. По совету Исагора, последний еще с дороги послал в Афины вестника с требованием; чтобы граждане удалили из своей среды лиц, подверженных проклятию; снова поднято было воспоминание о злодеянии Алкмеонидов, совершенном в Кидоново время. Клисфен не отважился ожидать прибытия спартанского войска и оставил страну.
По вступлении Клеомена в Афины Исагор немедленно приступил к своей насильственной реакции. Он указал Клеомену на 700 семей, бывших опасными по своему демократическому направлению, вследствие чего последний приказал своим воинам изгнать за пределы страны больше 3000 человек, мужчин, жен и детей. Затем была учреждена новая дума из 300 эвпатридов; но Исагор неожиданно встретил сильное сопротивление со стороны старой думы, которая не хотела уступить своего места и объявила о своем намерении поддерживать законы. Исагор, первый государственный сановник, для насильственного осуществления своего плана открыл доступ чужому царю и чужим войскам в цитадель родного города. Этот насильственный шаг, вместо устрашения народа, побудил только город и страну к открытому сопротивлению. Вооруженный народ полился сюда массами, окружил и начал штурмовать кремль, убежище его свободы и обитель величайших богов его страны. Уже на третий день Клеомен, прибывший с незначительным отрядом, потерял мужество; он заключил капитуляцию и постыдно оставил страну со своими обезоруженными спартанцами. Он взял с собой только Исагора, главнейшего виновника, и имел настолько низости, чтобы предать остальных аристократов, державшихся его стороны, карательной мести сограждан. Они были заключены в темницу и, как государственные преступники, осуждены на смерть. Призванный советом, Клисфен немедленно возвратился с другими изгнанниками в Афины и снова взял в свои руки управление государственными делами. Народ совершил великий подвиг, сила знати была сломлена, спартанцы заплатили позором за свои притязания; но еще грозили новые и сильнейшие опасности. Пылкий Клеомен напрягал все силы к отмщению своего позора, к восстановлению своей запятнанной чести; униженное спартанское государство должно было силой оружия восстановить свое потрясенное значение. Началась открытая война. Спарта выставила против Афин войска всего Пелопоннесского союза и сверх того, чтобы массой вполне подавить ненавистный город, призвала еще на помощь враждебные афинянам соседние города, аристократически управляемую эвбейскую Халкиду, с завистью смотревшую на возрастание Афин, и Фивы, которые, недавно разбитые афинянами, должны были терпеливо сносить отступления Платеи от Виотийского союза и присоединение ее к Афинам.
В то время как пелопонесское войско, предводимое обоими спартанскими царями, Клеоменом и Димаратом, вторгнулось в Аттику и расположилось лагерем при Элевсисе, фиванцы с виотянами прошли через Киферон и овладели Иноей, а халкидское войско переправилось через пролив и опустошило восточную часть Аттики. Несмотря на всю опасность, Клисфен и афиняне не потеряли мужества. Решившись на крайнее сопротивление, они со всей своей военной силой отправились против пелопоннесцев к Элевсису, где Клеомен безнаказанно свирепствовал в святилищах Димитры и Коры: он приказал вырубить священную рощу, опустошил благословенную пашню, принесшую некогда людям первую жатву ячменя, и священный луг, на котором при мистических торжествах устраивался хоровод. Войска противников уже выстроились в боевой порядок, как вдруг коринфяне обратили тыл и направились к лагерю, а их примеру последовали и другие. Спартанцы созвали пелопоннесцев на войну самовольно, без союзного определения, даже без объявления им цели похода. Лишь по вступлении в Аттику сделались известными замыслы спартанцев. Только удайся им покорение Афин, и их могущество, уже и теперь весьма заметное, сделалось бы опасным для самостоятельности пелопонесских государств. Поэтому коринфяне воспользовались осквернением Элевсинских святилищ, как благовидным предлогом, и отказались от содействия. Все войско распалось, и Клеомен, оставленный даже своим царственным товарищем, без боя повел своих спартанцев обратно на родину.
Неожиданно освободившись, не поднимая оружия, от самого опасного противника, афинский народ тотчас же бодро отправился с Элевсинской равнины к восточному берегу, с целью наказать вторгнувшихся халкидийцев. Но так как фиванцы последовали за афинянами в намерении соединиться с халкидийцами, то они обратились сначала против них и нанесли им совершенное поражение. 700 виотийских гоплитов были взяты в плен и в цепях шли за афинским войском, которое в тот же день переправилось через море для преследования халкидийцев, поспешивших отступлением, в их собственной земле. Халкидийцы были разбиты, а город их покорен. Он должен был принять демократическое устройство и отказаться от лучшей части своей области, со всеми владениями знати, в пользу афинян. С этих пор искони славная Халкида сделалась незначительным городом. Афиняне же на десятую часть выкупа за пленных виотийцев и халкидийцев воздвигли в честь своей богини медную четверню на акрополе; а в воспоминание победы по стенам последнего были развешены цепи пленников.
Спартанцы еще раз пытались положить предел возрастающему могуществу Афин. В негодовании на последние неудачи своей политики, они оставили правило, которому до сих пор следовали с честью, – правило, повелевавшее всюду в Греции низвергать тиранию, и даже призвали из Азии Иппию, чтобы снова водворить его в Афинах и сломить могущество их с помощью изгнанного прежде тирана; но в союзном собрании, которое они созвали в Спарту, с целью привлечь на свою сторону союз, коринфяне снова выразили несогласие, а к коринфянам пристали и прочие союзники. Спартанцы принуждены были, таким образом, оставить свой план, и Иппия, ничего не сделав, возвратился в Сигейон.
Своим решительным мужеством и храбростью афинский народ добился свободы в своих внутренних делах, а во внешних не только защитил оспариваемую у него независимость, но и вынудил от соседей немаловажные выгоды. Вся Эллада с удивлением смотрела на быстрые победы и чрезвычайное преуспеяние Афин. Все это было плодом единодушия и дружного одушевления, которым народ был обязан учреждением Клисфена. Во время внешних войн, выпавших на долю Афин, Клисфен не остановился на пути устройства и упрочения народного владычества, умножения и укрепления государственных сил. Он провел предложение, по которому земли, приобретение государством на Эвбее, были разделены на 4000 участков и распределены между аттическими гражданами из класса фитов. Через это государство приобрело 4000 зевгитов, следовательно, увеличило свои военные силы на 4000 гоплитов. Число граждан было увеличено распространением права гражданства на множество иноземцев и сожителей (метэков), которые до сих пор за известную плату жили в городе и занимались торговлей и ремеслами; они увеличили силу народа против знати. Полномочия высших сановников, архонтов, были ограничены с той целью, чтобы они не делались, как это случилось с Исагором, опасными для спокойствия и прав народа. Для устранения раздоров и козней партий при выборах высших сановников, где честолюбие богатых и сильных всегда находило широкое поприще, было постановлено решать дела между соискателями жребием.
Клисфену обязано своим происхождением еще одно исключительно принадлежащее Афинскому государству учреждение, имевшее целью предохранение народа от господства или опасного преобладания отдельной личности, именно – остракизм или черепковый суд. Он был высшим стражем аттической демократии. Ежегодно совет в определенное время обращался с запросом к народному собранию о том, не требует ли положение государства удаления какого-либо гражданина. Если народ отвечал утвердительно, то был назначаем день для нового народного собрания, на котором каждый гражданин тайно записывал на черепке имя того человека, которого он считала опасным для государства. Если на 6000 черепков было написано одно и то же имя, если, стало быть, треть аттических граждан, имевших право голоса, объявляла кого-либо опасным для государства, то этот человек в продолжение 10 дней должен был оставить отечество на 10 лет. При этом он не терпел, однако ж, ущерба в остальных своих правах и имуществе и не считался своими согражданами, вследствие такого изгнания, наказанным или обесчещенным. Вообще остракизм был редко употребляем и им никогда не злоупотребляли. Рассказывают, что он в первый раз применен был к самому Клисфену; но этому противоречит известие, что первым подвергшимся остракизму был родственник изгнанного тирана Иппии, по имени Гиппарх, сын Харма из дома Холарга. Последний достиг Звания первого архонта в 496 году, в то именно время, когда персы грозили возвращением Иппия; и это было достаточной причиной для удаления его из государства, как человека опасного для народной свободы Развитием демократических элементов в Солоновом законодательстве и уничтожением ограничений, зависевших от аристократического влияния, Клисфен впервые довел Солоново устройство до его полноты. С тех пор мощь афинского народа развивалась быстрыми шагами, так что Афины сделались наряду со Спартой могущественнейшим государством в Греции.
«Теперь только выросли Афины, – говорит Геродот о Клисфеновом времени, – и пример их показывает, какую цену имеют свобода и равенство прав. Ибо пока афиняне находились под властью тиранов, они не могли одолеть в войне ни одного из своих соседей; по освобождении же от тиранов, далеко превзошли всех». Подобно тому, как в описываемое время нападение Спарты на свободу и независимость Афин немало действовало быстрому и неожиданному возрастанию влияния их, так точно в последующие десятилетия опасности персидских войн быстро подняли их на высшую степень могущества и политического развития.