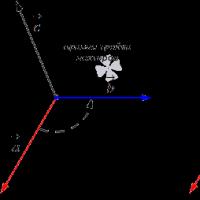Интервью с учителем "учитель - профессия дальнего действия". Интервью к юбилею
#уЕжа учитель начальных классов Анастасия Бондарева (Предеина)
— Учительство – призвание или профессия?
— Учительство, безусловно, — это призвание, которое базируется на огромнейшем профессионализме.
И я искренне не понимаю тех педагогов, которые работают в школе и её терпеть не могут. Это, в первую очередь, издевательство над самим собой. Для чего тогда оставаться в школе? Ради денег? Вряд ли. В большинстве своём таких учителей не любят.
Из университета нас выпускают не совсем знающими учителями, искренними, верящими в счастье и радость учительской профессии, думающими, что всё очень легко. А в школе приходит понимание, что профессионализм вырабатывается годами. Я до сих пор не могу сказать, что я учитель профессионал (Анастасия работает в школе 8-й год – прим. ред. ).
Я искренне не понимаю тех педагогов, которые работают в школе и её терпеть не могут.
— Ты из династии педагогов. Почему решила её продолжить?

— Наша педагогическая династия большая. Моя мама — учитель начальных классов, а вот сама династия со стороны папы. Мой прадед был учителем физической культуры и начальных классов в Саратове, но практически не успел поработать, потому что началась Великая Отечественная война. А моя прабабушка — учитель истории — очень долгое время, практически с юношеских лет, работала директором саратовской школы. Она всегда с удовольствием отзывалась о своей профессии и была очень горда тем, что я тоже стала учителем.
Моя мама уже много лет работает учителем начальных классов, и я всегда знала, на что иду, что меня ждёт, и каково это — быть учителем. Тем не менее, уже в начальной школе я понимала, что хочу стать учителем. Был только один бунтарский период в 13-14 лет — хотела стать визажистом-косметологом и делать всех красивыми и ухоженными. Но когда я узнала, что нужно идти в медицинский университет, всё желание отбило. Ведь однажды посетив экзамен в медицинском училище (бабушка-медик брала пятилетнюю меня на работу) и увидев манекен с внутренними органами, поняла, что медицина – это не моё.
— А какие ещё профессии рассматривала при поступлении в вуз?
— Кроме «учитель начальных классов», никакие. Подавала документы только на 1 факультет во Владимирский педагогический университет, в крайнем случае рассматривала поступление в педагогический колледж.
— Из твоих одногруппников многие работают в школе?
— На момент выпуска из 40 человек в школу ушло работать процентов 85. Это просто фантастический поток, преподаватели и декан были в безумном восторге. Со временем кто-то отсеялся, но из нашей группы 15 из 20 человек сейчас работают в школах Владимира, области и близлежащих городов. Мы периодически общаемся, друг у друга что-то спрашиваем.

— Почему осталась работать в школе Владимира, а не уехала в столицу?
— Не могу сказать, что я сразу хотела поехать в Москву или Санкт-Петербург. Во-первых, у меня был целевой договор и 5 лет я должна была отработать во Владимире. Но, к сожалению или счастью, о нём мне ни разу в жизни никто не напомнил.
Меня приглашали работать в Москву, и желание куда-то уехать закрадывалось. Но на самом деле я боюсь что-то резко менять, переехать в чужой город далеко от семьи и друзей, заново всё это нарабатывать, формировать и организовывать… Во владимирскую школу мы пошли работать с подружкой. А через 3-4 года работы я поняла, что не хотела бы уезжать из города. Меня устраивает работа, здесь возможно как-то развивать педагогическое дело. Не зарекаюсь, что желания уехать не будет никогда, но сейчас все мои планы во Владимире.
— Пять лет назад, в сентябре 2013-го, во Владимир приезжал Дмитрий Медведев. Он ведь побывал в вашей школе и на твоём уроке?
— О, это очень забавная история. Август 2013 года. Я работаю в лагере и даже не подозреваю, что через пару дней мне придётся ехать на работу. Вдруг раздаётся звонок от директора, и мне сообщают, что завтра в 7 утра я должна быть в школе, потому что 1 сентября ко мне на открытый урок приезжает Дмитрий Анатольевич Медведев (Председатель Правительства Российской Федерации – прим. ред.). Я отвечаю: «Да, конечно, хорошо». Вешаю трубу и рыдаю, потому что морально не готова оставить отряд детей. Но в итоге в 5 утра следующего дня я вернулась в город, а в 7:00 пришла в школу.
Оказалось, Дмитрий Анатольевич собирался приехать в город, чтобы посетить уроки, связанные с 20-летием Конституции РФ, причём ему хотелось проследить развитие этой темы от начальных к старшим классам. Опустим момент невообразимых школьных приготовлений…
Тогда у меня был 3 класс, тему Конституции мы ещё не затрагивали, поэтому на интерактивной доске я решила сделать кроссворд. В нём были вопросы о государственных символах, тематические термины и ключевое слово — «конституция». Предполагалось, что Дмитрий Анатольевич придёт именно в тот момент, когда мы будем весело отгадывать загадки.
На появление Председателя Правительства РФ дети вообще никак не отреагировали, для них это был просто дяденька из телевизора.
 Он поздоровался, спросил, что за день и говорит: «Вы разгадываете кроссворд? Я вам помогу». Встал у доски и начал открывать слова, когда дети отгадывали. И вот мы доходим до части слова КОНС, а он и говорит: «Дети, вы же можете дальше не отгадывать, вы наверняка знаете это слово».
Он поздоровался, спросил, что за день и говорит: «Вы разгадываете кроссворд? Я вам помогу». Встал у доски и начал открывать слова, когда дети отгадывали. И вот мы доходим до части слова КОНС, а он и говорит: «Дети, вы же можете дальше не отгадывать, вы наверняка знаете это слово».
Я сквозь зубы ему отвечаю: «Нет, Дмитрий Анатольевич, мы ещё маленькие, мы ещё не знаем». Он: «Да нет, что вы! Вы знаете». 4 человека активно тянут руку. Он: «Давайте хором». И дети: «Конструкция». Он засмеялся, поздравил нас с 1 сентября, пожал мне руку. И пошёл в старшие классы.
Что послужило звоночком для администрации, чтобы выбрать для этого мероприятия именно меня? Я не боялась. Внутренне понимала, что что-то сильно не так быть не может, поэтому нестрашно. А ещё директор говорит, что я постоянно улыбаюсь.
Очень часто молодые учителя, проработав год, собирают вещи и уходят.
 — Педагоги сегодня в дефиците?
— Педагоги сегодня в дефиците?
— Да, даже несмотря на то, что ежегодно выпускается огромное количество педагогов. Их не хватает всегда, потому что очень часто молодые учителя, проработав год, собирают вещи и уходят. Кроме этого, 70 процентов педагогического состава в школе — это возрастные учителя (за 60 лет). Работать с маленькими детьми им достаточно сложно, особенно в начальной школе, где надо и попрыгать, и побегать. Огромный дефицит в школах приводит к тому, что учителям начальной школы приходится брать 2 класса в разные смены, а учителям-предметникам совмещать несколько предметов. От этого никуда не денешься.
Больше всего сегодня не хватает учителей английского языка. Они знают, что могут найти более высокооплачиваемую работу. Обидно, что молодые педагоги не задерживаются, да и студенты не особо идут. В этом году только 1 выпускница моего факультета пришла работать в школу…
— А какая сегодня школа?
— Современная школа для меня очень индивидуальная. И это не об индивидуальном подходе. А о том, что каждая школа имеет «своё лицо». Она пытается быть в чём-то лучше, выделиться, дать новое. Сейчас образовательное учреждение на 80 процентов автоматизировано — много интерактивных досок, веб-камер, нетбуков, систем голосования.
Современная школа более живая. Каждый имеет своё мнение, позицию по отношению к какому-либо вопросу. Спросите наших мам, имели ли они право что-то высказать, что-то изменить в своём обучении. Конечно, нет. А современные дети с удовольствием принимают участие в процессе образования и иногда корректируют его. И это безумно интересно, когда ты понимаешь, что ребёнок подталкивает тебя к совсем другому решению вопроса, другой позиции, которую ты и не рассматривал. А со временем, всё обдумав, понимаешь, что его вариант куда интереснее и необычнее, чем то, что ты сам задумал.
— А в общем какие сегодня дети?
— Дети очень свободные, и эта свобода делает их как безумно интересными, очень знающими, так и не всегда добрыми. Они пытаются проявить себя, самореализоваться, быть лидерами. Но в силу того, что по телевизору не рассказывают о том, как быть Человеком, а родители не всегда могут уделить этому достаточно времени, дети становятся более агрессивными. И я знаю, что педагогам старой закалки от этого очень тяжело с ними справиться. Ведь они уже не поспевают за их мыслями, и тем более не приемлют свободы их мышления и мнений.
Но мне очень нравятся современные дети. Нам, молодым педагогам, в этом плане проще. Тех детей, которые были раньше, мы не знаем, нам не надо перестраиваться.
Современное правительство и законы сделали так, что школа превратилась в сферу услуг
 Интервью с учителем
Интервью с учителем
— Изменилось ли сегодня отношение к учителю? Кажется, в наши школьные годы мы относились к педагогам иначе, уважительнее что ли…
— Да, к сожалению, в целом отношение к учительству изменилось в худшую сторону.
Сейчас в большинстве своём учителей школы воспринимают… Как сферу услуг. Современное правительство и законы сделали так, что школа действительно превратилась в сферу услуг – мы оказываем образовательные услуги, и родитель для нас — клиент. А как все знают, клиент всегда прав. В школе получается также. Родитель может прийти и начать топать ногами, обзывать, хамить, писать жалобы. Самое главное и обидное то, что в такие моменты практически никто не может защитить учителя. Он оказывается в безвыходной ситуации. Я знаю прекрасных педагогов, которые были вынуждены уволиться из-за такого отношения.
Сейчас каждый родитель считает, что может прийти и учить нас образовывать их детей.
А школу не критикует только ленивый. Хотя, скорее, надо критиковать не школу, а законы и инновации, которые пытаются в неё привнести.

— Кстати об инновациях. Усложняется ли школьная программа? Тебе не кажется, что детей сегодня перегружают, что требуют от них слишком много?
— Нагрузка в школе — наболевший вопрос. Так как школа сейчас — это сфера услуг, она пытается потакать тем желаниям и веяниям, которые «образуются» вокруг ребенка ещё в дошкольный период. Поговорите во дворе с любой мамочкой. Куда она отдаёт своего ребёнка? Бедный малыш ходит и в бассейн, и на танцы, и на изучение английского с китайским, и на ментальную математику, и на вышивание, и в театральную студию, и за хомячком ухаживает, и на самокате катается. И чаще не для того, чтобы стать разносторонним человеком, а чтобы мама смогла сказать своей подружке: «Мой ребенок стал читать раньше, считает в пределах миллиона, выделает квадратный корень…» И так далее.
Эти запросы родителей ещё до школы и формируют то, что даёт образовательное учреждение. Программа шагает на одном уровне с детьми. Они в принципе сейчас знают больше, чем знали 5-10-20 лет назад. И им уже нельзя давать тот уровень, который давали нам.
 Всегда есть альтернативные программы. Например, сейчас огромное количество образовательных программ. Самая обычная – «Школа России». Я не считаю её плохой или лёгкой. Она рассчитана на всех детей, каждый ребенок с ней справится, а дальше всё зависит от учителя. Если ребенок слабее, ему даются какие-то карточки, дополнительный материал, вспомогательные методические пособия. Если ребенок более усидчивый, с ним идёт работа повышенной сложности. Не могу сказать, что программа очень объёмная. Просто появилось много разных предметов, внеурочной деятельности, внеклассной работы, которая загружает ребенка. Но в какой-то степени это разгружает родителей, потому что большое количество факультативов проходит на базе школы.
Всегда есть альтернативные программы. Например, сейчас огромное количество образовательных программ. Самая обычная – «Школа России». Я не считаю её плохой или лёгкой. Она рассчитана на всех детей, каждый ребенок с ней справится, а дальше всё зависит от учителя. Если ребенок слабее, ему даются какие-то карточки, дополнительный материал, вспомогательные методические пособия. Если ребенок более усидчивый, с ним идёт работа повышенной сложности. Не могу сказать, что программа очень объёмная. Просто появилось много разных предметов, внеурочной деятельности, внеклассной работы, которая загружает ребенка. Но в какой-то степени это разгружает родителей, потому что большое количество факультативов проходит на базе школы.
— Реальный случай: в WhatsA pp родители детей из одного класса создают общий чат, чтобы совместными усилиями решать за детей задачи/выполнять упражнения. Что это? Не справляются дети или слишком опекают родители?
— Да, в реальность случая верю. В моём классе кто-то из ребят не успел прочитать книги, заданные на лето. И мамы друг другу их пересказывали. Дети у меня маленькие, ничего не скрывают. И когда они принесли сдавать читательские дневники, кто-то так и сказал: «Ой, да я это не читал. Мама спросила в общей беседе, и я по её словам записал».
Конечно, это та самая медвежья услуга своим детям. Нормальный адекватный учитель никогда не «съест» и не унизит ребёнка, если он подойдёт и скажет, что с заданием не справился. А так это родители просто хотят упросить себе работу (а быть родителем — это огромная работа). Ведь одно дело — помочь ребёнку, другое – сделать за него. Но объяснять ребёнку ещё раз родителям просто лень или уже вечер, или есть ещё какие-то дела, или просто ребёнок бесит (такое тоже слышу). Поэтому это, скорее, не излишняя опека родителей, а излишнее желание пойти более простым путём.
Мой пример из жизни. Несмотря на то, что моя мама — учитель начальных классов, я не отличница. У меня всегда было две четвёрки: по русскому языку и математике. Во 2 классе нам задали задачу, в которой переливали растительное место в трёхлитровые банки. Решить её мне никак не удавалось. Мама объясняла и словесно, и на чертеже, и на каких-то кругах, и ещё как-то. Подключился папа, а я так ничего и не понимала. В итоге мама с папой переговорили, папа ушёл в магазин и принес 9 литров растительного масла (это был 1996-97 год, сами понимаете, сколько это денег для молодой семьи). Родители поставили 3 банки, перелили что-то куда-то, и я сразу поняла, как решается эта задача. Её решали мы часа три, но родители не сдались, помогли, и задачу я решила сама.
 Интервью с учителем
Интервью с учителем
— Совсем недавно в Instagram ты делилась: «Молодых, инициативных, очень грамотных и интересных педагогов много, но чаще всего администрация образовательных учреждений даже не представляет, как поддержать огонёк, как его развить». Есть шанс найти общий язык с администрацией?
— Я не могу сказать, что администрация как-то это пресекает. Я называю это словом «мешать». Не только администрация, но и коллеги очень часто пытаются навязать свою точку зрения на общение с детьми, проведение каких-то внеклассных мероприятий, на твоё желание самореализовываться в образовательном коллективе. А ведь она не единственно правильная (и это не про методические рекомендации). Не всякая администрация смотрит на это позитивно.
Многим нужен человек-педагог, которым хорошо управлять.
Мне лично повезло с администрацией, не помню, что хоть раз что-то запретили.
 Чтобы найти общий язык с администрацией, первое время не нужно перечить. Нужно прислушиваться, в непонятных тебе ситуациях не бояться попросить помощи. И главное — самому проявлять инициативу, ведь под лежачий камень вода не течёт. Нужно общаться, участвовать в мероприятиях, конкурсах педагогических, профессиональных. И тогда о тебе сложится хорошее впечатление, основанное не только на мнении руководства, детей и родителей, но и на мнении каких-то сторонних людей – членов жюри различных конкурсов, экспертных комиссий.
Чтобы найти общий язык с администрацией, первое время не нужно перечить. Нужно прислушиваться, в непонятных тебе ситуациях не бояться попросить помощи. И главное — самому проявлять инициативу, ведь под лежачий камень вода не течёт. Нужно общаться, участвовать в мероприятиях, конкурсах педагогических, профессиональных. И тогда о тебе сложится хорошее впечатление, основанное не только на мнении руководства, детей и родителей, но и на мнении каких-то сторонних людей – членов жюри различных конкурсов, экспертных комиссий.
Вообще директора и завучи любят молодых педагогов, ведь школа стареет, а молодые педагоги вносят новую жизнь, огонёчек в жизнь детей и учреждения в принципе. Если умело и аккуратно педагога «вести» и не мешать ему, тогда этот огонёк не угаснет.
— Ты видишь работу школы изнутри. Скажи, чего не хватает сегодня школе?
— Сложный и компрометирующий вопрос.
Первое — школе сейчас не хватает единой цели, к которой все должны стремиться, которую все должны понимать, воспринимать и на неё работать. У каждой школы может быть своя концепция или единая государственная цель. Но, мне кажется, очень часто мы (образование) не понимаем, кого и как мы должны воспитать. И поэтому получается «мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь».
Второе – не хватает заинтересованных педагогов. Тех, которые бы горели, хотели работать.
Третье – финансирование. Банально от хозяйственных нужд до зарплат сотрудников. Денег не хватает.
Я искренне считаю, что работа педагога должна оплачиваться выше.
Ведь мы отдаём не только свои знания, но и свои эмоции, внутреннюю силу. И работа педагога не заканчивается в школе. Приходя домой, ты проверяешь тетради, готовишься к уроку, общаешься с родителями и многое другое.
Для того, чтобы зарабатывать в школе, например, 50 тысяч рублей, мне нужно взять 2,5 ставки. Но это нереальная нагрузка — не успеешь жить.

— Что самое сложное в работе учителя начальных классов?
— Самое сложное в работе любого учителя (не только начальных классов) — это найти общий язык с родителями. Это скажет каждый педагог.
А в моей профессии самое сложное то, что я должна уметь всё, знать всё и научить всему. Если мы изначально не привьём желание учиться, умение дружить, умение сострадать, не дадим возможность самореализовываться, не поможем стать тем, кем через много лет он станет, он этого никогда не сделает. Ведь к 7 годам сформирована личность, а дальше мы закладываем навыки, умения, знания.
— В одном из интервью Ежа наш гость-психолог сказал: «Сегодня учителя берут несколько ставок, чтобы получить зарплату, на которую можно прожить. Это те же люди, которые имеют свои сложности и пытаются выжить. Если бы педагоги были лучше защищены, идеологически подготовлены и у них не было бы такой нагрузки, то они больше внимания уделяли бы воспитанию «.
Что думаешь по этому поводу? Воспитательная функция сегодня ослаблена?
— Если говорить о воспитательной функции, я бы не сказала, что это связано с большой загруженностью в плане ставок. У педагога огромная загруженность в бумажном плане.
Нашу профессию превратили в бумажкоперекладывание.
Будь добр, напиши конспект от руки, в электронном виде и загрузи в сеть, поставь оценки в дневник, заполни журнал, не забудь оформить электронный журнал (вписать туда темы, домашнее задание и т.д.). А у меня 32 ученика. Каждому нужно всё это вписать. И я понимаю, что это время могла бы потратить на то, чтобы с детьми поговорить, поиграть, ещё раз что-то объяснить. Но этого времени нет.
Поэтому воспитательная составляющая зависит не от количества нагрузки. Вся школа — это воспитательное пространство. Что ребенок видит вокруг себя, то он и «принесёт» домой. И это воспитательное пространство мы корректируем.
 Интервью с учителем
Интервью с учителем
— А как ты думаешь, должен ли учитель принимать активное участие в воспитании или это сугубо дело родителей?
— Семьей закладывается 60-70 процентов воспитания — умение дружить, сострадать, любить, делиться, помогать, злиться, проявлять агрессию. Педагоги могут это скорректировать, показать ребёнку, как можно иначе. А школа организует пространство, которое помогает ребенку развиваться.
— Ты видишь недочёты образовательной системы, превращение учительства в бумажкоперекладывание, а школы – в сферу услуг… Почему ты остаёшься в школе?
— Я очень люблю детей и, похоже, обладаю некоторой степенью мазохизма. Но мне действительно очень нравится работать в школе, не считая бумажной волокиты.
— А что самое главное в жизни?
— Семья. И очень многие учителя страдают от того, что этого не понимают и остаются у разбитого корыта.
— Назови принципы работы Анастасии Максимовны в трёх словах.
— Улыбка. Развитие. Интерес.

Фото из личного архива Анастасии Бондаревой
Итак-с. Все мы когда-то пошли в школу в первый раз. Все мы помним, как нам хотелось или не хотелось учиться. Все мы помним, насколько нравился нам первый учитель.
Отправляя в школу своего ребенка, мы хотим быть уверены, что у него все будет отлично.
Что важно получить от начальной школы?...
Я думаю, что для каждого родителя (есстесно, я сейчас не говорю о заполошеных мамашках, которые искренне уверены в необходимости запихать в своего ребенка тонны нужной и ненужной информации и заставить его ходить на все возможные доп.занятия, перегружая его) ВАЖНО чтобы в начальной школе:
4. расширили кругозор
5. Не отбили желание учиться, показав что это интересно
6. И ГЛАВНОЕ: не поломали и не забили склонности и таланты ребенка.
Для начальной школы все таки лучше выбирать не сверхсильную школу (в будущем, вы всегда сможете перевестись, уже понимая что для вашего ребенка интересней), а Учителя. Т.е. Человека, который будет проводить с вашим ребенком добрую половину дня (если не больше).
А потому, мне кажется, что лучше всего, пойти в школу, по месту прописки или которую вы выбрали, и познакомиться с теми педагогами, которые набирают первый класс.
Причем, не просто познакомится и задать стандартные вопросы, которые вас волнуют, а провести некое собеседование. Ведь грубо говоря - этот человек будет работать на вас.
Но все мы люди и понимаем, что и нам бы не понравилось, если пришла бы какая-то тетка и давай вас экзаменировать или допрашивать.
Потому, договорившись с педагогом о беседе, вспомните, о том, что вы ищете человека и беспокоитесь о своем ребенке. И начиная беседу, в первую очередь подчеркните, что вы бы хотели, чтобы вашему ребенку в школе было хорошо, спокойно, весело и интересно. А потому, вы бы хотели задать ряд вопросов педагогу о нем самом. Скажите, что вы понимаете, что некоторые вопросы будут неожиданные, попросите не удивляться, потому что первый учитель - это ведь так важно (педагоги с вами согласятся).
Предлагаю список вопросов.) (представьте, что вы проводите собеседование - но не оценку)
1. Вам нравится ваша работа? Почему?
2. Почему вы стали учителем?
3. Что вам больше всего нравится в вашей работе?
4. А что нет?
5. Что вы сейчас читаете? не по работе, а просто для себя.
6. Что вы считаете самым большим достижением в вашей учительской практике?
7. Как вы повышаете интерес и мотивацию ваших учеников?
8. Как вы относитесь к тому, что ваши ученики проявляют индивидуальность и отстаивают свое право на личное мнение? (вот тут внимание, хороший педагог понимает, что даже у малышей есть свое личное мнение)
9. О чем бы вы попросили рассказать ваших учеников, чтобы лучше познакомиться с ними?
10. Как вы поступаете с учениками, которые отличаются плохим поведением и воспитанием?
11. Чтобы вы хотели, чтобы ваши ученики помнили, после окончания начальной школы?
12. Какие особенные методы и технологии вы используете на ваших уроках?
13. Опишите идеальный урок, каким вы его представляете?
14. А у вас были когда-нибудь неудавшиеся уроки? Расскажите про самый худший? (может в начале карьеры, что запомнилось)
15. Назовите пять прилагательных, которыми вы можете описать себя?
16. Какие ваши личные качества вы считаете самыми полезными в учительской работе?
17.Расскажите о вашем представлении о школьном образовании?
18. Если бы у вас была возможность открыть свою школу, какой бы она была?
19. Какие темы в ваших предметах вам больше всего нравятся и почему?
20. Каким вы представляете идеального ребенка? (опять же внимание! идеальность - это рамки в которые загоняют)
Еще раз, напоминаю, не нужно показывать то, что вы проводите реальное собеседование, покажите, что вы обеспокоены, вам реально важно и интересно (люди любят, когда ими интересуются), обязательно поблагодарите за уделенное вам время, за согласие на встречу.
Ну и разумеется, сразу, по тому как человек отнесся к предложению встретиться, как вел беседу, что говорил - вы поймете, насколько он заинтересован в своей работе, любит ее, любит детей, какие позиции по отношению к детям имеет, ну и что за человек в целом.
Всем удачных бесед и отличных педагогов)
Доцент Кафедры теории права и сравнительного правоведения Б.В. Назмутдинов рассказывает о научной и преподавательской жизни, отношениях студентов и преподавателей, кино и дальнейших планах.
Булат Венерович , почему и когда Вы решили заняться именно преподавательской деятельностью? В чем заключается основная цель преподавания? Что именно (какие мысли, идеи и методы изучения) Вы хотели передать Вашим студентам?
Желание преподавать у меня появилось на старших курсах после того, как я решил поступать в аспирантуру. Писать диссертацию и не преподавать было бы странно. Почти сразу же после получения диплома (в июле 2008 г.) я встретил на Мясницкой Е.Н. Салыгина , и он предложил поработать в Лаборатории горного и энергетического права ГУ-ВШЭ. Я согласился, подумав, что параллельно так бы я мог остаться в Вышке и учиться в аспирантуре. Однако в сентябре, в конце первой недели работы, мне позвонил В.Б. Исаков и спросил, хочу ли я преподавать на кафедре теории права. Я ответил: «Конечно, да». До декабря работал в лаборатории, а затем – только на кафедре.
Выбор того, что можно преподавать, поначалу был ограничен – только теория государства и права на неюридических факультетах – политологии, экономике, ГМУ, менеджменте, социологии и рекламе. Но это был замечательный опыт: нужно было рассказывать интересно о предмете, который студентам часто был посторонним – особенно это касалось отделения рекламы. При этом было обидно, что многое (иногда почти все) уходит впустую, но были эмоции – радости, счастья и куража. Юристы не дают такую обратную связь. Теория права – ключевой компонент их образования.
В 2010 г. я начал вести ТГП на юридическом факультете, поверхностная легкость ушла, приходилось иначе готовиться. Я старался исправить те недостатки, которые я замечал, когда учился. Нас учили спокойно, взвешенно и догматично. Полемику формировали мы сами, и то в форме гвалта и полусплетен, закадровых комментариев. Для меня было важно ввести полемику в обучение, показать множественность взглядов, неоднозначность суждений, важность отстаивания своей правоты, ограниченность взгляда преподавателя. Иногда я сам чувствую, что пережимаю, навязываю свои суждения. Но при этом я вполне допускаю, что студент может с этим не согласиться, выстраивать свою позицию от противного. Такая реакция «от противного», была, например, у меня на занятиях В.А. Четвернина . Я не соглашался с его подходом, мне многое в этом подходе не нравилось, но его курс, в целом очень интересный и выстроенный, сыграл большую роль именно методологически. Приходилось придумывать собственные аргументы, искать собственные ответы. Некоторых курс Четвернина «ломал через колено», они начинали механически воспроизводить новые догмы взамен старых, «позитивистских». Мы с друзьями смотрели на это «обращение» своих одногруппников скептически. Уверенно говорить о «формальном равенстве», «форме свободы» – без знания работ Канта довольно странно. К сожалению, большинство юристов читают достаточно мало – особенно из того, что находится вне сферы их практики, повседневного опыта. На мой взгляд, читать и писать нужно много и вдумчиво. Этот призыв я адресую студентам и себе самому. Сейчас я пишу очень мало, о чем действительно жалею.
Расскажите, почему Вы решили посвятить себя именно теоретическим аспектам права, а не практике?
Мне никогда не была интересна юридическая практика. За полгода до поступления на юрфак ВШЭ я не знал, что поступлю именно сюда. Свою роль сыграла историческая олимпиада, благодаря которой я и поступил на факультет. Отчуждение росло от года к году, но неожиданно на пятом курсе я снова «вернулся» – после чтения «Основ философии права» русского правоведа Николая Алексеева. Я понял, что о праве можно писать интересно и сложно, а не сухо и нудно. В праве существует множество актуальных проблем, касающихся субъекта права, правопонимания, ценностей в праве и т.д. Кроме того, после выбора специализации ушло все наносное, осталось то, что мне всегда было интересно – история во всех ее видах, философия права, теория права. На этих расправленных крыльях я и влетел в аспирантуру.
Юридическая практика мне неинтересна, потому что непонятна. Непонимание сути этой работы мешает мне воспринять ее ценность и включиться в нее. Это моя индивидуальная проблема. Говорить об этом публично на юридическом портале вроде бы неправильно, даже непедагогично, но, мне кажется, искренность здесь гораздо важнее. Зачем мне себя и Вас обманывать?..
Над какими научными вопросами Вы работаете сегодня?
Я пытаюсь развивать те идеи, которые возникали при работе над диссертацией о политико-правовых аспектах классического евразийства. Это поиск идейных и исторических параллелей, порой моделируемых, а не реальных: евразийство и структурализм, евразийство и «право как коммуникация». Здесь возникают вопросы о «правовой структуре», «юридическом субъекте», соотношении права и ценностей. Также я ищу тот материал, который бы мог стать основой для новой работы – монографии или докторской диссертации, либо и того, и другого. Думал о такой теме, как коллективный субъект в межвоенных учениях 1920-1930 гг. Пока это очень большая палитра: от «социального права» Гурвича до итальянского фашизма и децизионизма Карла Шмитта.
Назовите юристов-классиков, которые оказали влияние на Ваше восприятие права. К какой школе права Вы причисляете себя сегодня? Менялся ли Ваш взгляд на сущность права и государства?
Каждая «классическая» работа в силу своего веса влияет на читателя. Помимо работ Николая Алексеева для меня были важны тексты Петражицкого, Новгородцева, Лона Фуллера. Из тех, кто писал о философии права и государства, – Гоббса, Канта, Руссо, Гегеля. Сравнительно слабо влияли позитивисты, но это лишь потому, что их идеи и так вплетены органично в процесс юридического образования, часто мы их идеи получаем без маркировки. Поэтому уже потом читать Шершеневича достаточно скучно. Хотя позитивизм в нас сидит, как закваска, и довольно успешно бродит, порождая причудливые сочетания. Можно, к примеру, увидеть основы позитивизма даже у В.С. Нерсесянца.
Относительно проблем правопонимания: применительно к России можно сказать, что государство у нас – устойчивый социальный институт, который определяет не только действительность, но и во многом содержание правовых норм. Но не в силу того, что право само по себе есть приказ суверена, веление государства. Важно учесть сочетание гипотез юридического позитивизма и социологической юриспруденции. Право у нас – приказ суверена, потому что государство в России социологически и исторически наиболее сильная и устойчивая социальная организация.
Что касается общего определения права как социального понятия, которое было бы применимо ко всем правовым системам, то пока я его для себя еще не сформулировал. Есть рабочее определение, которое обозначается на лекциях и семинарах, но это лишь точка отсчета, не истина.
Кто из современных российских юристов (практиков и теоретиков) вызывает у Вас восхищение и почему?
Если честно, я попытался представить, что испытываю подлинное восхищение кем-то из современников, но у меня не получилось. Но если бы восхищение было рациональным процессом, то можно и нужно было бы восхищаться В.А. Тумановым и В.Д. Зорькиным – авторами ключевых из написанных в советское время панорамных исследований о правовых учениях. Можно восхищаться Е.А. Сухановым как вдохновителем реформ гражданского законодательства. Очень важно и то, как А.В. Поляков и М.В. Антонов прочерчивают связи с европейской юриспруденцией в Санкт-Петербурге, организовывая весьма содержательные международные конференции. Можно восхищаться и В.Г. Графским, который при всем давлении на Академию Наук, сохраняет и развивает свой сектор ИГП РАН. Я очень рад тому, как В.Б. Исаков развивает нашу кафедру, давая возможность развиваться совершенно разным мнениям и позициям.
Расскажите, как появилась идея создать проект «Основы критической теории» (ОКТ)? Есть ли в ВШЭ подобные проекты, или данный проект не имеет аналогов? Данный проект реализован только в этом году, есть ли у Вас уже сейчас идеи по дальнейшему изменению способа преподавания и обсуждения материала?
Мы позже узнали, что на факультете экономики НИУ ВШЭ есть нечто подобное, но стартовали мы будто бы с чистого листа. А.А. Панову одна из его коллег подсказала идею чего-то совершенного нового, хотя и немного аморфного – мол, сейчас от юристов ждут чего-то совсем необычного и несервильного, дерзайте, стремитесь. Он поделился этой интенцией с Р.Ю. Бельковичем и со мной. Возникла идея «академического трека» внутри существующего юридического бакалавриата. Мы думали о разных форматах этого трека, составляли списки курсов, в итоге деканат предложил нам формат «научного проекта».
Сложностей с ведением занятий в рамках проекта довольно много: поиск общего языка, не такого, как на лекциях и семинарах, большой объем литературы, который студенты не всегда могут прочесть, разница в подходах преподавателей и пр. Но это все преодолимо. Цель проекта – создать интеллектуальную среду, клуб, корпорацию, можно по-разному называть. Но это должно быть сообщество, связанное, прежде всего, интересом к науке во всех ее проявлениях: от радости расширения горизонтов до ужаса открытия нового, мучительного переживания собственных заблуждений. На втором курсе мы хотим расширить поле проекта, включив в него не только критическую теорию государства, правовые теории двадцатого века, но и изучение рецепции римского права, правовую аргументацию, биоэтику, проблемы частного права и пр.
Гордитесь ли Вы своими студентами? Чему они Вас научили? Что бы Вы хотели пожелать Вашим студентам – будущим юристам?
Мне сложно называть их «своими». Они не мои. Все-таки юридический факультет поощряет осторожность в суждениях. Тем не менее, мне очень нравится, как, например, развиваются исследовательские траектории Георгия Тюляева и Ирины Османкиной. Их талант, трудолюбие и настойчивость в достижении целей меня вдохновляют, хочется быть, как минимум, не хуже. Антон Шаблинский научился создавать творческие площадки, «создавать дискурс», этим он нам очень помогает на ОКТ.
Я бы хотел пожелать студентам, чтобы они не обижались на преподавателей, прислушивались к нам, либо же, наоборот, последовательно отстраивали свою позицию «от противного», формируя что-то свое. Мне как преподавателю вовсе не все равно, что думают студенты. Внимательный, въедливый слушатель мотивирует говорящего тем, что в любой момент может спросить: «А почему это так?». Приходится лучше готовиться - это развивает.
Изменились ли студенты и их отношение almamater по сравнению с Вашим выпуском? Изменилось ли преподавание?
Думаю, отношение студентов в целом то же. Плохо лишь то, что сейчас студент может прийти с планшетом на семинар и создать видимость знания. Меня это раздражает: у нас же не конкурс планшетов, не конкурс «Яндекса». Некоторые типы деятельности – поиск законодательных норм для проверки теоретической гипотезы и др. – действительно, подразумевают, что нужен какой-то девайс, но в остальном нужна подготовка, нужен конспект – в письменной или электронной форме. Удивляет и другое: пришли, например, Вы на лекцию или семинар, хотя бы тетрадь откройте или ноутбук включите, это же не киноклуб. Все невозможно запомнить. Мы ценили интересные лекции и записывали их, либо же совсем не ходили. Лучше вообще не ходить, чем так вот сидеть.
Проблема преподавания гораздо сложнее. Масштаб этой сложности я ощутил, когда в прошлом году разговаривал с Роджером Коттерреллом из Лондонского университета (колледж Queen Mary) и другими коллегами. Профессор в Европе и США не похож на сановника: это достаточно скромный, но при этом открытый человек. У многих из них нет представлений и стереотипов «не так обратился, не так подошел, сходи-ка, дружочек, лучше за чаем». У нас модель «начальник-подчиненный» часто транслируется на отношения преподавателя и студента. Было бы лучше, если бы это общение было менее травмирующим для студента в части осознания собственного статуса. Ученик потенциально не намного слабее преподавателя, может, даже сильнее. Навязывать ему свое мнение об актуальности той или иной проблемы было бы неправильно. Многие преподаватели настаивают, что нужно изучать только «общезначимые» («общемировые», «общеевропейские») проблемы, но загвоздка в том, что работ по европейской интеграции (экономической и правовой) сейчас море, а по юридической антропологии народов Сибири – несколько речек. Научной может быть любая проблема, все зависит от уровня ее рассмотрения. Преподаватель на минуту должен забыть, что у него за плечами шлейф статей и монографий, членство в редакциях и советах, и помогать, говорить по существу, максимально забыв о своих статусных привилегиях.
Не секрет, что кинематограф занимает далеко не последнее место среди Ваших увлечений. Почему именно кинематограф? 2014 г. ознаменовался выходом таких фильмов, как «Судья», «Интерстеллар» и «Левиафан»: какие из этих фильмов Вы посмотрели, какие впечатления?
Кино мне нравится своей сложностью, способностью сочетать элементы театра, музыки и литературы. Но оно стало моим хобби во многом по необходимости. На четвертом курсе я подрабатывал тем, что писал статьи о кино, ходил на пресс-показы, брал интервью у режиссеров и сценаристов. Не шибко профессионально, но если статьи печатали, то хоть какой-нибудь смысл в них все же был. В это же время я организовал Киноклуб «Популяция» на базе одноименной студенческой организации, которую мы с однокурсниками создали на третьем курсе. Я приглашал режиссеров и кинокритиков, мы обсуждали кинокартины с теми, кто их и снимал: приходили Алексей Герман младший, Борис Хлебников, Алексей Попогребский, Александр Велединский. Из критиков – Алексей Васильев, Антон Долин, Станислав Ф. Ростоцкий и др. Из тех, кто работал в НИУ ВШЭ – Ян Левченко, Сергей Медведев, Павел Романов и др.
Один раз на показ пришла Валерия Гай Германика, спросила, можно ли вина и покурить. Пепельницу ей в зале соорудили, а вместо вина ей принесли молоко. Она довольно содержательно отвечала на все вопросы, что меня тогда удивило. В зал набилось больше 150 человек (при норме в 128), кто-то, напившись, уснул в проходе. Тогда в 2008 г. киноклуб был на гребне удачи, но спустя пару лет почти вся наша аудитория была потеряна из-за годовой паузы в кинопоказах. Мы как-то пытались исправиться. В январе 2013 г. показали «1210» Арсения Гончукова, выпускника киношколы НИУ ВШЭ, который снимал свое кино самостоятельно, без продюсеров и господдержки. Совсем недавно он показал новый фильм «Сын» на неделе российского кино в Германии, после чего стало известно, что он выйдет в Польше на 200 экранах.
После показа «1210» киноклуб ушел на покой. Зал на Покровке, где мы показывали кино, сейчас на ремонте. Меня иногда приглашают на киноклубы Палаты Национальностей НИУ ВШЭ: в январе показывали и обсуждали фильмы Айнура Аскарова. Сейчас проводятся кинопоказы в рамках Life Sciences Legal Club на факультете права. Без режиссеров, конечно. Хотя сам по себе киноклуб с участием режиссера – это очень важно и интересно. Надеюсь, что найдутся студенты у нас на факультете, которые восстановят эту традицию.
Что касается фильмов, то ни «Судью», ни «Интерстеллар», ни «Левиафана» я пока что не видел. Фильм Звягинцева посмотрю обязательно, «Интерстеллар» – постараюсь. Из того, что я видел в прошлом году очень понравились «Нарушитель спокойствия» Алекса ван Ванмердама и «Одержимость» (Whiplash) Дамиана Шазеля. Последний фильм замечателен тем, как он показывает процесс творческого развития – через боль и насилие над собой, не без намеренных провокаций со стороны наставника. Если честно, я уже разучился так работать над собой, как герои этого фильма. Пора исправляться.
Надежда Лущ, 3 курс
Мария Канатова, наш тайный агент в славном городе Тарту, взяла интервью у Леа Лембитовны Пильд, доцента и старшего научного сотрудника кафедры русской литературы Тартуского университета. Леа Лембитовна рассказала об учебе в Псковском музыкальном училище и Тартуском университете, о Заре Григорьевне Минц и «очеловеченном» научном общении, об атмосфере на кафедре русской литературы и изящности Юрия Михайловича Лотмана, о неожиданных вопросах иностранных студентов, увлечении фортепианной музыкой и положении филологии в мире.

- Первый вопрос: каким образом Вы попали на филологический факультет? Насколько мы знаем, Вы учились в музыкальном училище, после этого преподавали по классу фортепиано, и только потом поступили в Тарту. Расскажите об этом поподробнее.
Я думаю, что эти два заведения связаны между собой особым образом. Когда я поступила в музыкальное училище - это было в 74-м году - там еще преподавала сестра Юрия Михайловича Лотмана, Инна Михайловна Образцова, ныне покойная, она там была заведующей теоретическим отделением. Первый год я училась на заочном, но ее еще успела послушать. Это был какой-то знак, как я потом стала думать. А потом она ушла на пенсию, я перевелась на дневное отделение. Инну Михайловну заменил блистательный преподаватель, которого я до сих пор вспоминаю. Его звали Роман Евгеньевич Контаровский, он был заведующим теоретическим отделением, преподавал историю музыки и научил ее по-настоящему понимать (например, Пятую симфонию Шостаковича или балет Прокофьева «Ромео и Джульетта» я до сих пор помню по темам).
В моем сознании эти два учебных заведения - Псковское музыкальное училище и Тартуский университет - связаны фигурами преподавателей, потому что и там, и здесь у нас были очень яркие преподаватели. Я не стала продолжать занятия музыкой просто потому, что не поступила в Таллиннскую консерваторию и решила, что это не мое. Моя мама когда-то училась и у Зары Григорьевны, и у Юрия Михайловича, но не в университете, а в Тартуском учительском институте, когда они еще там преподавали, это было начало 50-х. И она высказала такую мысль, что я могла бы попробовать поступить сюда, что я и сделала. Я считаю, что это оказалось очень правильным решением.
- А как скоро Вы поняли, что хотите заниматься наукой?
Как ни странно, я с самого начала почему-то об этом думала. Я понимаю, что это с моей стороны было крайне самонадеянно. Почему? Потому что, когда я сюда поступила, я совершенно не имела представления о том, что такое анализ художественного текста. В школе (я закончила эстонскую школу в Печорах) мы этим никогда не занимались, но я читала какие-то литературоведческие труды, русскую литературу любила больше других литератур с ранних лет, знала, что если заниматься, то или Блоком, или Достоевским. И я вполне сознательно поступила в семинар прямо к Заре Григорьевне, а не, например, к Юрию Михайловичу, именно потому что Зара Григорьевна занималась этими двумя авторами. Как-то так получилось, что Зара Григорьевна обратила на меня внимание, и часть первой же моей курсовой работы она решила опубликовать в Блоковском сборнике (она была главным редактором этого издания с начала 1960-х гг., там публиковались, в основном, маститые ученые, студенты - не так часто). Конечно, это была абсолютно детская работа, но так все началось. Тогда для меня было очень важно, что все это (т.е. занятия Блоком, потом Чеховым) происходило рядом с Зарой Григорьевной. Поражали даже не столько ее научный талант и эрудиция (хотя, безусловно, и это), сколько человечность, доброжелательность, такт, выдержанность…
- Как формировался Ваш круг научных интересов?
Он формировался долго, то есть, скорее, все время расширялся, и опять-таки я не могла бы сказать, что формирование его закончилось. Сначала я написала, еще в семинаре, две работы по Блоку у Зары Григорьевны. Потом мы решили, что нужно как-то объединить литературоведческие интересы с музыкальными, и Зара Григорьевна дала мне тему "Звучащий мир в прозе Чехова", и два года был Чехов. Эти две темы, на самом деле, потом надолго определили круг моих интересов: русский символизм и литература второй половины ХIX века. После того, как я закончила университет, Зара Григорьевна решила, что я должна заниматься предсимволизмом. Она сама в это время писала статьи о предсимволизме и дала мне тему по Короленко (нужно было проанализировать, как он вписан в систему предсимволизма). А потом Зары Григорьевны не стало, это было в 90-м году, и это было катастрофой. Не только потому, что нужно было искать другого научного руководителя. Стало понятно, что такого, «очеловеченного» научного общения больше не будет. В течение какого-то времени я просто не понимала, что я буду делать. Потом придумала себе тему "Тургенев в восприятии русских символистов". Опять в центре - русский символизм, но уже гораздо более широкий круг авторов, а с другой стороны, - литературная традиция второй половины XIX века. После защиты диссертации (в 1999 г.) я вернулась к теме предсимволизма в том ракурсе, как его представляла себе Зара Григорьевна: это поэзия Случевского, мемуарная проза Ясинского, и, наконец, - Фет. Постепенно выяснилось, что поэзий Фета можно заниматься и совершенно самостоятельно. И, конечно, я занимаюсь эстонской литературой, прозой выдающихся эстонских писателей - Таммсааре, Кросса. Мы живем в Эстонии, поэтому странно было бы не видеть и не слышать того, что находится вокруг нас.
- Расскажите побольше о том, как это было: учиться у Юрия Михайловича, у Зары Григорьевны. У каждого, кто с ними сталкивался, тем более учился, есть что рассказать особенного. Что лично на Вас повлияло, на Вашу деятельность?
Опять-таки я вспоминаю второй курс, когда я перевелась на дневное отделение и поступила в семинар Зары Григорьевны. Жизнь в Тарту оказалась воплощением моих представлений о счастье, если считать счастьем полноту жизни и яркость впечатлений. Все это время мы практически каждый день, или через день, слушали лекции Юрия Михайловича и Зары Григорьевны.
Я училась в эстонской группе, как закончившая эстонскую школу, и лекции по истории русской литературы первой половины
XIX
в. нам читала Любовь Николаевна Киселева
.Но я еще параллельно ходила в русскую группу слушать Юрия Михайловича. Должна признаться, что на втором курсе я очень мало что понимала в содержании этих лекций. Было ощущение священного трепета, было понимание, что это выдающийся человек, совершенно особый. И это слушание лекций на втором курсе и общение, которое с Зарой Григорьевной и Юрием Михайловичем уже началось - это и было счастье. Было постоянное интеллектуальное и эмоциональное напряжение. Оно окрашивало все существование.
А потом мы, семинаристы, часто стали бывать у профессоров дома. Занятия наукой для Зары Григорьевны и Юрия Михайловича было образом жизни, стилем жизни. Они все время были заняты (не только писанием статей и корректурой изданий, но и чтением студенческих работ). Зара Григорьевна часто ложилась спать в два часа ночи; Юрий Михайлович, по-моему, вообще не ложился, я не знаю, спал ли он. Мы все знали, что он ночью сидит в кабинете и что-то пишет (и при этом слушает классическую музыку). В том году, когда я перевелась на дневное отделение, в семинаре у Зары Григорьевны нас было шестнадцать человек. Конечно, это безумно много. Удивительно, что в занятиях у Зары Григорьевны не было иерархии. Она никогда не говорила "я сейчас должна заняться своими делами или делами Юрия Михайловича, а ваши работы я потом прочитаю". Она занималась со всеми, даже с самыми слабыми студентками своего семинара. Она правила, дописывала, вписывала в студенческие работы целые фрагменты. Она радовалась, когда слабый студент делал хотя бы небольшие успехи. Это был именно стиль жизни, и поскольку мы с ним свыклись, мы не могли себе представить потом, что можно жить как-то иначе. Что ты отработал восемь часов, пошел домой, включил телевизор и забыл обо всем. Телевизора у Зары Григорьевны и Юрия Михайловича вообще не было, никогда.
Когда приходили студенты, конечно, все вместе накрывали стол, ставили чайник; всегда выходил из своего кабинета Юрий Михайлович. Он в быту был изящен: он вообще был очень изящный человек, даже когда читал лекции, было видно, что ему не все равно, как, например, сочетаются его жесты или одежда с тем, что он говорит. Я не знаю, насколько он над этим работал, потому что я его увидела уже абсолютно сложившимся человеком. Юрия Михайловича я воспринимала, конечно, с дистанции, потому что он не был моим научным руководителем, я видела его вот так, дома или на лекциях. А с Зарой Григорьевной у нас были более тесные отношения: с ней можно было говорить и «о жизни», она это любила. Она была демократична и не стремилась дистанцироваться от студентов, была для них всегда открыта. Хотя, когда мы сидели на семинаре и смотрели на нее, безусловно, все понимали, что это выдающаяся личность. У нее была редкая особенность, которую отмечали многие мемуаристы: она могла делать несколько вещей одновременно. Например, слушать доклады на студенческой конференции и писать свою статью. Или на семинаре сидеть, слушать реферат и что-то еще обдумывать. По ее лицу было видно, насколько она сосредоточена, она была необыкновенно красива в эти моменты. И вообще - красива.
И, в отличие от большинства женщин, серьезно занимающихся наукой, очень добра.
Моя мама рассказывала, что когда она ездила в Таллин на учительские курсы, собирались преподаватели со всей Эстонии, и когда Зара Григорьевна или Юрий Михайлович входили в аудиторию читать лекцию, то все учителя вставали. А если входил какой-то другой лектор, то не вставали (смеется). То есть абсолютно особое отношение.
- Как раз следующий вопрос: как изменилась атмосфера на кафедре с тех пор и что сохранилось?
Как вам сказать, мы были все-таки студенты, потом аспиранты. Когда мы приходили на кафедру, то наблюдали эту жизнь с некоторой дистанции. Конечно, атмосферу на кафедре определял Юрий Михайлович: уникальная личность, гениальный человек и ученый. И понятно, что когда в ученом сообществе находится такой человек, то вокруг возникает большое напряжение. Сосуществовать с ним рядом, я думаю, было непросто. И все равно, когда мы приходили, мы всегда видели только доброжелательность, ощущали уютную атмосферу.
Как эта атмосфера изменилась? Ну, изменилась, прежде всего, потому что нет больше Ю
рия Михайловича и нет больше Зары Григорьевны, уникально одаренных людей. Но, несомненно, многое в атмосфере сохранилось. Я считаю, что у нас на кафедре сейчас сложилось сообщество тоже во многом уникальное, потому что у нас между собой хорошие взаимоотношения (вообще-то это редкость). Кроме того, мы усвоили, видимо, от своих учителей, что ничего нельзя делать поверхностно, чисто формально. И не только мы, но и молодое поколение, которое сейчас у нас работает, которое мы воспитали: Мария Боровикова, Дмитрий Иванов,
Тимур Гузаиров
- все они занимаются наукой глубоко и серьезно.
Один из основных смыслов нашей деятельности я вижу именно в том, что мы должны передать своим ученикам то, что получили от своих учителей.

- Вы читали лекции во многих европейских университетах. Расскажите как опыт преподавания, опыт коммуникации со студентами и общая атмосфера там отличаются от того, что происходит в Тарту - того, к чему Вы привыкли?
Когда приезжаешь в другое место, в тот же Милан, например, или Мюнхен, или в Ригу - ты совершенно не знаешь этой чужой среды, и ты предлагаешь что-то свое. Но понятно, что у тех, кто тебя слушает - итальянцы, или немцы, или латыши - у них есть свой культурный фон, и они воспринимают это с какой-то своей точки зрения, иногда совершенно неожиданной для меня как лектора. И в этом смысле, конечно, такой опыт чрезвычайно полезен, потому что он, в свою очередь, готовит к последующим неожиданностям. Как правило, они задают вопросы, эти иностранные слушатели, что несколько отличает их от наших студентов, потому что у нас бывают группы, где в течение семестра слышишь очень мало вопросов, даже встречались курсы, где вообще не задавали вопросов - это как-то разочаровывает. Скорее, за границей всегда бывает какая-то повышенная активность, повышенный интерес. Но, может быть, это объясняется просто приездом иностранного лектора. Я не знаю, как эти студенты ведут себя со своими преподавателями.
- Вы и в России читали лекции.
Да, последний опыт был как раз в Москве, в Московском университете (я читала лекции о поэзии Фета). Должна сказать, что на лекциях была прекрасная атмосфера. Слушатели были уже, наверное, подготовлены к таким лекциям Михаилом Сергеевичем Макеевым, - известным некрасоведом. Он сам был очень хорошим слушателем - компетентным, заинтересованным, внимательным.
- Каковы Ваши ненаучные интересы?
Основной мой ненаучный интерес - это музыка. Так получилось, что я перестала играть на фортепиано, но зато я очень много слушаю. Если раньше не любила музыку современных композиторов, даже очень талантливых, то последнее время я стала их слушать (Шнитке, Пярт, Губайдуллина). В Москве есть радиостанция «Орфей», транслирующая классическую музыку, как они сами говорят, единственная радиостанция такой направленности в России. Если я дома, у меня это радио звучит с самого утра и часов до десяти вечера. Еще я люблю слушать одни и те же произведения в разном исполнении. Допустим, Марта Аргерих и Альфред Брендель играют произведения Шуберта или Рихтер и Глен Гульд играют Баха и т.д. Я предпочитаю, конечно, фортепианную музыку, но в последнее время все больше увлекаюсь вокальными жанрами (очень люблю Чечилию Бартоли, Юлию Лежневу). Недавно как-то особенно увлеклась еще балетными спектаклями - вдруг открыла для себя масштаб одаренности Николая Цискаридзе и поразилась, что в наше время живут люди, универсализм таланта которых, скорее, ассоциируется с эпохой Возрождения…
- Ну и напоследок такой общий, очень широкий вопрос. Что Вы думаете о настоящем филологии и каким видите ее будущее?
Любой филолог скажет Вам, что настоящее филологии - не очень радостное: инвестиции финансов в гуманитарные дисциплины невелики. Но, в принципе, такое положение характеризует филологию не только в Эстонии или в России, но и во всех европейских странах, можно сказать, во всем мире. Все-таки мне кажется, что будущее у филологии есть, но филологией, скорее всего, будет заниматься небольшое количество людей (как, впрочем, и сейчас), для которых это интересно, важно - я имею в виду литературу в данном случае. Я думаю, что здесь массовость не обязательна.
Фотографии Екатерины Вансович.
Я взяла интервью у прекрасного учителя начальных классов - Выборновой Татьяны Александровны!
- Здравствуйте, Татьяна Александровна! Расскажите о себе и о своей профессии.
Родилась я в 1982 году. Закончила РГУ им. Есенина. После второго курса вышла замуж, а спустя год у меня родились мои девочки - Лера и Вика. Пришлось последний курс учиться заочно. По образованию я учитель математики. Но уже 9 лет работаю учителем начальных классов.
- Почему Вы выбрали эту профессию?
С детства меня сопровождали разговоры о школе, так как у меня мама тоже учитель. Любимая игра в детстве - в «школу». У меня был настоящий классный журнал, который мама принесла с работы. Я спрашивала воображаемых учеников и выставляла им оценки.
- Чем Вас привлекает Ваша профессия?
Мне нравится работать с детьми. По моему мнению, когда работаешь с учениками, такое ощущение, что ты совсем не стареешь, как называется всегда в «теме»: знаешь что творится в мире, последние новости, потому что именно молодежь - это движущая сила страны!
- Что является самым сложным в Вашей работе?
Вообще я очень вспыльчивый человек, завожусь, как говорится, с пол-оборота. Поэтому лично для меня самое сложное - это владеть собой и управлять своими эмоциями, особенно в тех ситуациях, когда вижу, что ребенок не то чтобы не может усвоить материал, он не хочет.
- Довольны ли Вы, что выбрали когда-то эту профессию?
Да, довольна, так как профессия учителя достаточно интересна в плане каких-то новых открытий, потому что каждый раз приходят новые дети и каждый раз приходится находить с ними и общий язык, и какие-то точки соприкосновения. Я не могу себя представить в другой профессии.
Сразу вспомнила слова Ключевского: «Чтобы быть хорошим учителем, нужно любить то, что преподаешь, и тех, кому преподаёшь». Человек должен прежде всего любить детей! Также он должен быть внимательным, умеющим верно оценивать различные ситуации и быстро находить оптимальный выход.
- О чем бы Вы хотели предупредить тех, кто собирается получить такую же профессию как у Вас?
Учитель, я считаю, это даже не профессия, а образ жизни. Учитель играет важную роль в формировании личности каждого своего ученика. Став учителем ты берешь на себя огромную ответственность, прежде всего перед учениками, так как «учитель» является фундаментом всех профессий.
- Сложно ли было освоить Вашу профессию? Какое образование нужно получить для этого?
Нет, мне не сложно было. Я, помимо образования в РГУ, посещала различные курсы, так как считаю, что учитель - он и воспитатель, и наставник, и помощник, и защитник, и вдохновитель, который призван помочь ребёнку приобрести не только знания об окружающем мире, но овладеть умениями и навыками.
- Нужны ли какие-то особые качества человеку, который решил стать специалистом в этой области?
На мой взгляд, нет, особые качества не нужны. Я считаю, что учитель - это всё-таки призвание, поэтому уже с детства эти люди, которым суждено стать учителем, ответственные, пунктуальные, трудолюбивые, уравновешенные, общительные.
- Приносит ли Ваша профессия хороший доход?
Я никогда не задумывалась над этим вопросом, если честно. Для меня главное - это успех моих учеников. Но, наверное, если сравнивать с окружающей обстановкой, у учителей маленькая зарплата. Но я и за маленькую зарплату каждый день готова творить чудеса.
- Каким, по-вашему, должен быть идеальный ученик? И встречался ли он в Вашей практике?
По-моему мнению, активным, любознательным, старательным, исполнительным, честным, прилежным. В каждом выпуске есть «звездочки», которые запоминаются на всю жизнь. Но особенно запоминаются сложные дети, из которых удается слепить хороших человечков.
- Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время?
Все свое свободное время уделяю семье: дочкам, мужу. Считаю, что семья - это то, для кого и ради чего человек живет. А еще, в свое время я окончила музыкальную школу. Но со временем я перестала уделять время своему хобби. Сейчас хочу возобновить свои музыкальные занятия и уже купила синтезатор.
- Хотелось ли когда-нибудь бросить всё и проявить себя в совершенно другой сфере деятельности?
Бывает такое, особенно в минуты слабости и усталости. Бывают такие «пиковые» ситуации, когда начинаешь задавать себе вопрос: «Зачем мне всё это нужно?». Но ответ находится быстро - это дело всей твоей жизни, и искать себя на другом поприще - у меня нет для этого ни основания, ни мыслей.
- Есть ли у Вас любимые ученики?
В своей практике я никогда не делила учеников на любимых и нелюбимых. Выделяю, конечно, тех учеников, которые начинают интересоваться предметом с первых же занятий, задают дополнительные вопросы, выходят за рамки учебника.
- Ну, Татьяна Александровна, и напоследок Ваши пожелания или слова благодарности коллегам и ученикам.
Огромное спасибо всем тем, кто помогал мне в трудные минуты мудрыми советами! Спасибо ученикам, которые помогли мне стать мудрее! «Если мечтаешь увидеть радугу, то не бойся попасть под дождь!» - мой девиз в жизни и на работе.
- Огромное спасибо, Татьяна Александровна!
Интервью провела Елена Титкина, ученица 11-го класса